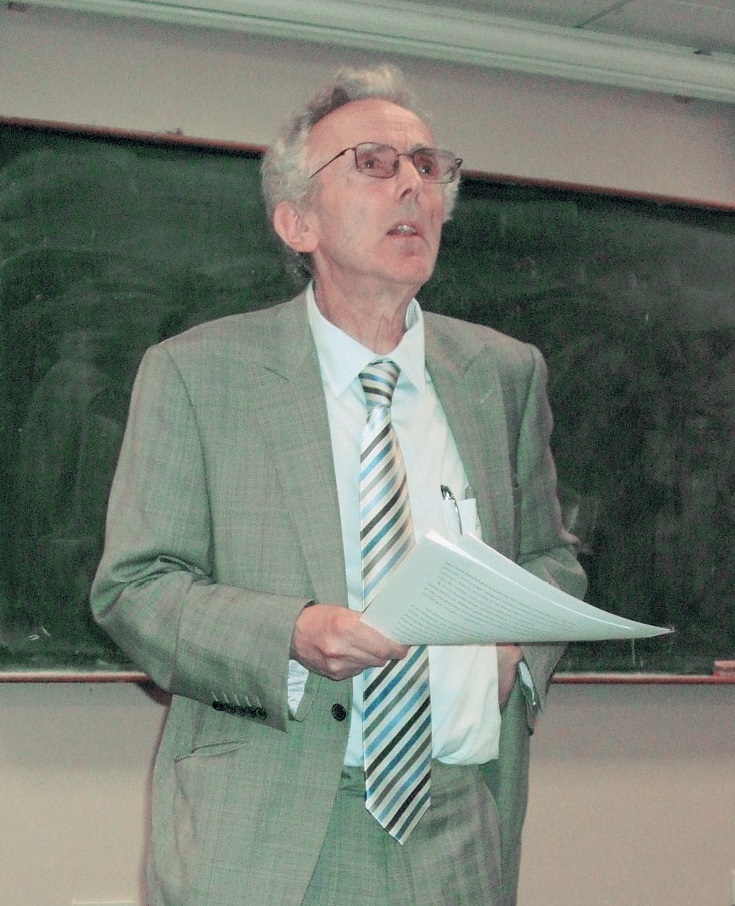
Но́вая культу́рная исто́рия — направление современной историографии, окончательно сложившееся на рубеже 1980–1990‑х. Первоначально наименование Н. к. и. использовалось наряду с «новой интеллектуальной историей». Влиятельным изданием, определившим особенности Н. к. и., принято считать коллективную публикацию под редакцией Л. Хант (1989). Однако направление не было однородным, а сама книга являлась попыткой зафиксировать открытое и активно развивающееся исследовательское поле.
Н. к. и. тесно связана с методологическими дискуссиями среди историков 1980‑х, касавшимися статуса исторической реальности. В этих дискуссиях подход представителей Н. к. и. зачастую относили к постмодернизму в историографии, но сами эти исследователи не настаивали на таком самоопределении. Действительно важным для них было обращение к текстуальной, а не социальной теории как основополагающей для историка. Это требовало существенного переосмысления исторической профессии, в частности статуса текста историка — нарратива исторического. Исследованию тестов историков XIX–XX вв. были посвящены ранние работы 1970‑х и 1980‑х, выполненные в русле Н. к. и. такими авторами, как Х. Уайт, М. де Серто, Д. Лакапра и др.
Исторический нарратив (И. н.) — это текст историка в целом, обеспечивающий не только доступ к определенному фрагменту прошлого, но и сами параметры представления о прошлом, характерные для исторического сознания XIX–XX вв. В смысловой конструкции времени, сложившейся к концу XVIII в., «прошлое» и «настоящее» не только связаны, но и разделены: «прошлое» не может вторгаться в «настоящее». Это позволяет сочетать представление о многообразии исторического опыта, несводимого к универсальной норме, с представлением о единстве и общем развитии национальной истории.
Исследования И. н. не были направлены на то, чтобы «разоблачить» его или поставить под сомнение его действенность. Напротив, именно действенность текста историка требовала объяснения, но давалось оно не через отсылку к исторической реальности, а через установление более сложного порядка исторического, связанного с особенностями И. н. как культурной формы. Важно отметить, что опираясь на аналитическую (критическую) философию истории, представители Н. к. и. предполагали различение ремесла историка, текста историка и его теоретических высказываний. Они не ставили под сомнение исследовательские практики историка, однако требовали профессиональной рефлексии по отношению к форме И. н. и переосмысления статуса теории в исторической профессии.
Начав с исследования И. н. XIX–XX вв., представители Н. к. и. обратились к иным формам представления знания о прошлом. Их интересовали не только текстуальные формы (исторические сочинения предшествующих эпох, религиозная, популярная, альтернативная история, случаи использования апелляции к истории в современной судебной практике и т. д.), но предметные (коллекции), архитектурные (руины), визуальные и аудиовизуальные формы. Наряду с историзмом, они также обратились к исследованию иных темпоральных режимов, например анахронизма.
При всей значимости исследование И. н. (и других форм репрезентации прошлого) — лишь одно из направлений Н. к. и. В рамках этого направления исследователи обращаются к самым разным темам — упомянем работы Р. Дарнтона и Р. Шартье, объединяет их представление о статусе источника исторического. Источник не указывает на внешнюю по отношению к нему историческую реальность. Он не просто является следом или отпечатком действия истории, он заключает историю в себе. Историчность указывает, прежде всего, на форму исторического источника, а не его «содержание». Вслед за П. Берком здесь важно отметить четыре характеристики, свойственные подходу Н. к. и.: исследование практик, репрезентаций, материальности и телесности.
Так, при работе с источником значимым становится внимание к множественным практикам, в которые он был вовлечен в разные периоды времени. При этом время развертывается не из прошлого к настоящему (линейное представление о времени), а от настоящего к прошлому (представление о множественности исторического времени). В этих условиях возрастает потребность осмысления роли архива (в том числе цифрового). Как практика наделения смыслом рассматривается акт репрезентации. Здесь также подчеркивается открытость и подвижность культурных значений. Не менее важна для исследователя материальная данность источника. С одной стороны, материальность имеет значение как один из аспектов медийности — она отвечает за передачу значений, с другой — материальность связана с телесностью и выводит исследователя на проблематику истории чувственности и истории восприятия.
Сохраняя приверженность исторической профессии, сегодня исследователи, принадлежащие к Н. к. и., работают в одном поле с историками понятий, историками языка, литературоведами, искусствоведами, исследователями визуальности и медиа, археологами, архитекторами и другими специалистами.
Лит.: The New Cultural History / Ed. by L. Hunt. Berkeley (Cal.), 1989; Зверева Г. И. Реальность и исторический нарратив: проблемы саморефлексии новой интеллектуальной истории // Одиссей. Человек в истории. 1996. М., 1996. С. 11–24; Берк П. Историческая антропология и новая культурная история / Пер. с англ. М. Неклюдовой // Новое литературное обозрение. № 75. 2005. С. 64–91; Бенн С. Одежды Клио. М., 2011; Шенле А. Архитектура забвения: Руины и историческое сознание в России Нового времени / Пер. с англ. А. Степанова. М., 2018. О. В. Гавришина.
