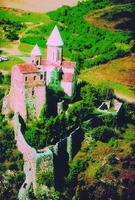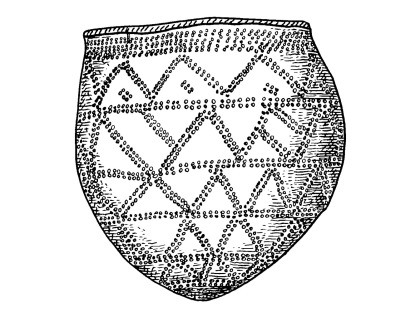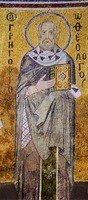
ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ (Назианзин) - архиепископ Константинопольский, отец и учитель Церкви.
Жизнь
Главным источником жизнеописания Григория Богослова являются его собственные сочинения (основные научные работы о биографии Григория Богослова: Gallay. 1943; Bernardi. 1995; McGuckin. 2001). По обилию автобиографических сведений в ряду древних христианских авторов Григорий Богослов может сравниться лишь с блаженным Августином. Среди автобиографических произведений Григория Богослова основное место занимает книга «О себе самом», содержащая 99 стихотворных произведений, в том числе поэму «О своей жизни». Автобиографическими являются отдельные слова, посвященные событиям жизни святителя (пресвитерской хиротонии, удалению в пустыню, удалению с епископского престола), его ближайшим родственникам и друзьям (отцу, младшему брату Кесарию, сестре - святой Горгонии, святителю Василию Великому). Обширная переписка Григория Богослова также проливает свет на некоторые детали его биографии. Среди свидетельств современников выделяются письма к Григорию Богослову святителя Василия Великого (Basil. Magn. Ep. 2, 7, 14, 19, 47, 71, 169, 171), который говорит о своем друге как о «сосуде избранном» (ср.: Деян 9. 15), «глубоком кладезе», «устах Христовых» (Ep. 8).
Детство и юность
В поэме «О своей жизни» Григорий Богослов пишет, что ему было около 30 лет, когда он вернулся (около 356-357 годов) домой по окончании обучения - на этом основана общепринятая датировка его рождения (De vita sua // PG. 37. Col. 1046). Согласно лексикону «Суда», Григорий Богослов дожил до 90 лет, однако эта информация вряд ли верна (Suda. Lex. 450). Будущий святитель родился в имении отца, святителя Григория, епископа Назианзского (старшего). Святитель Григорий, богатый и влиятельный аристократ, в молодости принадлежал к секте ипсистариан (Greg. Nazianz. Or. 18. 5). В возрасте 45 лет, главным образом под влиянием жены, он принял христианскую веру, обратившись с просьбой о крещении к епископам, отправлявшимся на Вселенский I Собор, и был крещен архиепископом Каппадокийским Леонтием (Ibid. 12). В 328 или 329 году он был избран пресвитером и затем епископом Назианза; управлял епископией до смерти, сочетая кротость пастыря со строгостью администратора (Ibid. 27)
Святая Нонна, подчиняясь мужу в семейных делах, была его наставницей в благочестии: соблюдала посты, проводила ночи в молитве, занималась благотворительной деятельностью, покровительствуя вдовам и сиротам (Ibid. 8-10). Именно она, по-видимому, оказала решающее влияние на христианское воспитание детей - Григория, Кесария и Горгонии. Оставаясь на протяжении многих лет бездетной, святая Нонна дала обет в случае рождения ребенка посвятить его Богу. Однажды во сне она увидела будущего ребенка и услышала его имя. Григорий Богослов всегда помнил об этом событии, считал себя «новым Самуилом» и рассматривал свою жизнь как исполнение обета, данного матерью (Carm. de se ipso 1 // PG. 37. Col. 1001-1003; De vita sua // PG. 37. Col. 1034-1035). Родившийся первенец был наречен Григорием в честь отца. О родителях Григория Богослова отзывался с благоговением и почтением, видя в отце образ истинного архипастыря, а в матери - образ идеальной супруги, через которую дети приобщились к христианской традиции (Carm. de se ipso 1 // PG. 37. Col. 979-980; De vita sua // PG. 37. Col. 1033-1034).
Григорий Богослов рос, окруженный любовью родителей, домашних и слуг. Его христианскому воспитанию способствовало чтение книг и общение с «добродетельными мужами» (De vita sua // PG. 37. Col. 1036). Но, возможно, решающим для него был его собственный опыт молитвы и мистического соприкосновения с Божественной реальностью: Григорий Богослов упоминал о «ночных видениях», при помощи которых Бог вселял в него любовь к целомудренной жизни (Carm. de se ipso 45 // PG. 37. Col. 1367). Во время одного из таких видений юному Григорию Богослову явились 2 прекрасные девы - Чистота (ἁγνεία) и Целомудрие (σωφροσύνη): они призвали мальчика избрать девственный образ жизни, чтобы приблизиться к «сиянию бессмертной Троицы» (Ibid. Col. 1369-1371). Это видение оставило глубокий след в душе Григория Богослова и во многом предопределило его жизненный выбор. Другое подобного же рода событие - первое мистическое видение Божественного света, которое было одновременно первым опытным соприкосновением Григория Богослова с тайной Святой Троицы (Carm. de se ipso 1 // PG. 37. Col. 984-987),- не только усилило аскетические устремления Григория Богослова, но и повлияло на весь строй его богословской мысли (тема созерцания Троичного света стала центральной в учении Григория Богослова). Глубокая мистическая жизнь началась у него еще в детстве: «Когда был я ребенком... я восходил ввысь, к сияющему престолу» (Ibid. Col. 1006). О годах юности он вспоминал: «Вместо земных стяжаний... у меня перед глазами было сияние Бога» (Ibid. Col. 992). Уже в годы юности приобщившийся к сокровищницам языческой учености, Григорий Богослов и в христианской литературе был начитан прежде, чем достиг зрелости (De vita sua // PG. 37. Col. 1115). Высоко ценя античную культуру, он тем не менее ставил на первое место «подлинные науки» (то есть христианское учение) (Ibid. Col. 1037-1038).
Григорий Богослов получил блестящее по тем временам образование. Вместе с братом Кесарием (Or. 7. 6) он начал обучение в Назианзе; впоследствии около года посещал школу в Кесарии Каппадокийской, где, вероятно, впервые встретился со святителем Василием Великим (Or. 43. 13). Здесь Григорий Богослов должен был пройти курс начального («грамматического») образования, включавшего изучение алфавита и арифметики, чтение вслух, письменные упражнения, заучивание наизусть фрагментов из сочинений древних поэтов, толкование заучиваемых текстов, а также курс среднего («общего») образования, состоявшего из математики, геометрии, астрономии и теории музыки, к которым могли добавляться другие предметы, в частности медицина.
Риторику, относившуюся к сфере высшего образования, Григорий Богослов изучал в «процветавших тогда палестинских училищах», то есть в Кесарии Палестинской (Or. 7. 6), у ритора Феспесия (Hieron. De vir. illustr. 113). Ближе к концу 348 года Григорий Богослов вместе с братом покинули Кесарию Палестинскую и отправились в Александрию, которую святитель впоследсвтии называл «лабораторией всех наук» (Or. 7. 6); по его словам, здесь он «вкусил нечто из словесности» (De vita sua // PG. 37. Col. 1038; ср.: Gallay. 1943. P. 33-35). Как в Александрии, так и ранее в Кесарии Палестинской Григорий Богослов должен был познакомиться с литературным наследием Оригена, преподававшего в обоих городах; в Александрии Григорий Богослов мог, вероятно, встречаться со святителем Афанасием I Великим, а также слушать лекции знаменитого экзегета Дидима Слепца.
Курс образования Григория Богослова должен был завершиться в Афинах, куда он в том же 348 году отправился из Александрии (уже без брата) на корабле. На пути его ждало суровое испытание, которое стало переломным моментом в его судьбе: когда корабль находился в открытом море недалеко от острова Кипр, разразился шторм (Ibid. Col. 1038-1040). Запасы воды удалось пополнить благодаря проходившему неподалеку финикийскому судну, однако шторм не утихал в течение многих дней, и корабль, на котором находился Григорий Богослов, окончательно сбился с пути: «Мы не знали, куда плывем, ибо многократно меняли курс, и уже не чаяли никакого спасения от Бога» (Ibid. Col. 1041). Григорий Богослов, хотя и являлся сыном епископа, не был крещен в детстве: принятие таинства откладывалось до окончания учебы и вступления в зрелый возраст. Оказавшись лицом к лицу с рассвирепевшей стихией, он не столько боялся самой смерти, сколько опасался умереть некрещеным (Ibidem). В этой ситуации Григорий Богослов дал обет посвятить себя Богу в случае, если ему будет сохранена жизнь: «Твоим я был прежде, Твой есмь и ныне... Для Тебя буду жить, если избегну сугубой опасности! Ты потеряешь Своего служителя, если не спасешь меня! Ученик Твой попал в бурю: оттряси же сон, или приди по водам, и прекрати этот ужас!» (Ibid. Col. 1043). Бог услышал его молитву: шторм неожиданно прекратился. Несмотря на то что Григорий Богослов крестился и посвятил себя служению Богу только после окончания Афинской академии, уже ничто не могло отвратить его от следования намеченной цели.
Обучение в Афинах
Ко времени учения Григория Богослова в Афинской академии господствующей философской школой в ней стал неоплатонизм с ярко выраженной теургической направленностью. Григорий Богослов впоследсвтии упрекал Афины за то, что они «изобилуют худым богатством (идолами), которых там больше, чем во всей Элладе, так что трудно не увлечься за восхваляющими и защищающими их» (Or. 43. 21). Однако и влияние христиан в академии становилось все более ощутимым. Христиане преподавали наряду с нехристианами: наставниками Григория Богослова в софистике были язычник Имерий и христианин Проэресий (Eunap. Vitae sophist. 487-488; Socr. Schol. Hist. eccl. IV 26; Sozom. Hist. eccl. VI 17; Сократ и Созомен упоминают среди учителей Григория Богослова антиохийского ритора Ливания, что маловероятно). Среди учеников также были и христиане, и язычники - каждый мог исповедовать ту или иную религию по своему усмотрению. Основными предметами, изучавшимися в академии, были риторика и софистика: в Афинах Григорий Богослов приобрел риторическое мастерство, впоследсвтии стяжавшее ему бессмертную славу. Основными литературными образцами при изучении риторики оставались сочинения Гомера, Еврипида и Софокла, памятники аттической прозы и поэзии, преимущественно на мифологические сюжеты. Обширными знаниями в области античной мифологии, которыми Григорий Богослов отличался от других отцов Церкви IV века (Demoen. P. 211-212), он был в значительной степени обязан занятиям в Афинах. Своеобразие его литературного стиля также во многом обусловлено профессиональными навыками в риторике. Философии в академии уделялось меньше внимания, чем риторике. Хотя в сочинениях Григория Богослова помимо Платона и Аристотеля постоянно упоминаются многие другие античные философы, ссылки на них как правило носят общий характер. Его мало интересовали обычные студенческие развлечения: он предпочитал жизнь тихую и уединенную. Главным его желанием было преуспеть в риторике и других науках, «приобрести познания, которые собрали Восток и Запад и гордость Эллады - Афины» (Carm. ad alios 7 // PG. 37. Col. 1554; De vita sua // PG. 37. Col. 1044).
Во время пребывания в Афинах Григорий Богослов сблизился со святителем Василием Великим. «...Ища познаний, обрел я счастье... испытав то же, что Саул, который в поисках ослов своего отца обрел царство»,- говорил Григорий Богослов по этому поводу (Or. 43. 14; ср.: 1 Цар 9-10; в тексте Григория Богослова игра слов между именем «Василий» и словом «царство» - βασιλεία). Именно в Афинах их знакомство переросло в «дружбу», «единодушие» и «родство» (Or. 43. 14). Это был союз людей, всецело преданных идеалам философской жизни и учености, стремящихся к нравственному совершенству. Несмотря на отношения равенства и взаимную преданность друг другу, Григорий Богослов всегда воспринимал святителя Василия как старшего и главного: он искренне считал святителя Василия «в жизни, слове и нравственности превосходящим всех», кого он когда-либо знал (Ep. 16). В Афинах, где дух язычества был очень силен, святитель Василий и Григорий Богослов вели христианский образ жизни, одновременно преуспевая в риторическом искусстве (Or. 43. 21).
Григорий Богослов провел в Афинах около 8 лет. Он намеревался покинуть город вместе со своим другом сразу же по окончании курса, однако обоим было предложено остаться в академии в качестве преподавателей риторики. Святитель Василий уговорил Григорий Богослова согласиться на почетное предложение; сам же уехал, вероятно, втайне от Григория Богослова. Поступок святителя Василия не вписывался в представления Григория Богослова о дружбе, даже много лет спустя он вспоминал об этом с горечью (Or. 43. 24). Проведя еще нек-рое время в Афинах в качестве ритора, Григорий Богослов вернулся на родину, где также отдал дань риторике. Этот короткий период он рассматривал лишь как вынужденную задержку, которая тем не менее стала для него подготовкой к будущей деятельности на церковном поприще (De vita sua // PG. 37. Col. 1046-1048).
Выбор пути
Вскоре после возвращения из Афин Григорий Богослов принял таинство Крещения (Gallay. 1943. P. 67). Намерением его было вести жизнь «философа». В его представлении это означало полумонашеский образ жизни, сочетающий строгий христианский аскетизм с учеными занятиями. Однако по просьбе отца он взял на себя управление фамильным имением, что доставило ему немало хлопот (Ibid. P. 66). Как старший сын Григорий Богослов являлся наследником состояния отца. Сочетать обязанности по управлению имением с созерцательной жизнью было нелегко. Некоторое время он жил вместе со святителем Василием в его понтийском уединении, изучая Священное Писание и сочинения Оригена. Помимо аскетических подвигов святители занимались в Понтийской пустыне литературной деятельностью; в частности, Григорий Богослов помогал святителю Василию в составлении нравственных и аскетических правил. В 115-м письме Григорий Богослов упоминает сборник фрагментов из сочинений Оригена под названием «Добротолюбие» (Θιλοκαλία); традиционно считается, что он был составлен им вместе со святителем Василием (впрочем, М. Харл, подготовившая этот сборник к изданию (SC; 302), сомневается в общепринятой атрибуции). Через некоторое время Григорий Богослов вернулся домой. Это возвращение было связано не только с его обязанностями по управлению поместьем и чувством долга перед родителями, но и с внутренним колебанием между стремлением к созерцательной жизни и сознанием необходимости приносить общественную пользу. Григорий Богослов искал для себя промежуточный, «средний» путь, идя по которому он мог бы сочетать аскетический образ жизни с учеными трудами и, не лишаясь уединения, приносить пользу людям. Но отец, престарелый епископ Назианза, сделал его своим помощником в управлении епископией. В 361/362 году он настоял на том, чтобы Григорий Богослов принял от него пресвитерскую хиротонию. Впоследствии Григорий Богослов называл этот поступок отца «тиранией», а себя упрекал в малодушии за то, что согласился на пресвитерство (De vita sua // PG. 37. Col. 1053-1054; ср. иную оценку того же поступка отца как «благой тирании»: Or. 1. 1). Дальнейший жизненный путь Григория Богослова пролегал между церковным служением и стремлением к уединению («кафедрой» и «пустыней» - смотреть: Otis. The Throne and Mountain...). Не вынося суеты и шума большого города, он сразу же после рукоположения ушел в Понт к святителю Василию. После многих усиленных просьб отца ему пришлось вернуться в Назианз и принести извинения отцу и его пастве за свое бегство.
Священство и епископство в Назианзе
Григорий Богослов служил в Назианзе пресвитером около 10 лет, помогая отцу в управлении епископией. Летом 362 года император Юлиан Отступник издал эдикт об учителях, запрещавший христианам преподавание в университетах и школах. В христианской среде религиозного политика императора вызвала негодование. В «Словах против Юлиана», опубликованных после его смерти, Григорий Богослов обрушился на бывшего соученика по Афинской академии с резкими обличениями. Император, по свидетельству Григория Богослова, послал в Назианз солдат для того, чтобы захватить христианские храмы. Однако святитель Григорий (старший) не только лично противостоял начальнику гарнизона, но и возбудил против него паству до такой степени, что если бы тот притронулся к христианским святыням, то «был бы растоптан ногами» (Or. 18. 32). В концу 363 года святитель Григорий (старший) поставил подпись под омиусианским символом веры (вероятно, под формулой Антиохийского Собора 363 г.- Benoit. 1973. P. 182-183; Bernardi. Introduction. 1983. P. 32; Calvet-Sebasti. Introduction. 1995. P. 30-31). Само по себе подобное событие не было чем-то экстраординарным, поскольку святитель Григорий вкладывал в термин ὁμοιούσιος (подобосущный) православное содержание. Однако группа назианзских монахов, заподозрив епископа в ереси, немедленно отделилась от него. Схизма продолжалась недолго, тем не менее Григорию Богослову пришлось специально защищать отца в 6-м слове, написанном по случаю возвращения монахов в лоно Церкви. Григорий Богослов не скрывал, что, «следя» за отцом, он участвовал в управлении епископией и постепенно становился как бы со-епископом Назианзской Церкви (Or. 18. 18). К подобному же служению был около 364 года призван святитель Василий: по просьбе престарелого епископа Кесарийского Евсевия он принял священный сан и стал его ближайшим помощником. Григорий Богослов откликнулся на рукоположение святителя Василия письмом, больше похожим на соболезнование, чем на поздравление (Ep. 8).
Во время размолвки святителя Василия с епископом Евсевием Григорий Богослов послал епископу Евсевию письма, в которых отзывался о святителе Василии самым лестным образом (Ep. 16-18); он также писал святителю Василию, советуя вернуться к епископу (Ep. 19). Узнав о желании будущего святителя Григория, епископа Нисского, брата святителя Василия, посвятить жизнь риторике, Григорий Богослов написал ему увещательное послание, в котором укорял друга за то, что тот «захотел быть известным как ритор, а не как христианин» (Ep. 11). С подобными же письмами Григорий Богослов обратился к брату Кесарию, которого призывал отказаться от придворной карьеры. Кесарий в отличие от отца и брата избрал светскую карьеру и после получения высшего образования в Александрии стал придворным врачом в Константинополе. Он оставался при дворе даже в царствование императора Юлиана (Ep. 14). Во время землетрясения 11 октября 368 года в Никее Кесарий, занимавший тогда должность хранителя придворной казны в Вифинии, оказался под обломками рухнувшего здания, но чудесным образом уцелел (Ep. 20). Вскоре, однако, он умер, приняв перед смертью крещение. Преждевременная кончина младшего брата оставила глубокую рану в душе Григория Богослова: «Нет у меня больше Кесария,- писал он одному из их общих друзей.- И скажу, что, хотя страдание не свойственно философии, я люблю все, что принадлежало Кесарию, и если вижу что-либо напоминающее о нем, обнимаю и целую это, словно его самого, и думаю, что как бы вижу его, нахожусь с ним и беседую с ним» (Ep. 30). Вслед за Кесарием умерла сестра святого Горгония. Григорий Богослов посвятил обоим надгробные слова (Or. 7, 8).
В 370 году умер епископ Кесарийский Евсевий; наиболее вероятным кандидатом на его кафедру был святой Василий, который уже фактически управлял епархией при жизни Евсевия. Еще прежде, чем новость о кончине епископа Евсевия достигла Назианза, Григорий Богослов получил письмо от святого Василия, в котором последний извещал его о своей болезни и просил приехать как можно скорее. Григорий Богослов был глубоко опечален, так как вообразил, что его друг умирает, и немедленно отправился в путь. Однако в дороге обнаружилось, что в Кесарию направляются епископы для избрания святого Василия на Кесарийскую кафедру. Узнав о готовившемся избрании нового епископа и предположив, что намерением святого Василия было завлечь его в Кесарию и заставить участвовать в собственном избрании, Григорий Богослов отправился обратно (Ep. 40). Тем не менее он принял участие в избрании святого Василия: от имени своего отца он послал в Кесарию 2 письма, в которых поддержал кандидатуру святого Василия (Ep. 41 и 43). По этому же поводу он писал священномученику Евсевию, епископу Самосатскому,- тоже от имени отца (Ep. 42). Когда же святитель Василий был избран, Григорий Богослов послал ему поздравление, в котором объяснял причины своего нежелания ехать в Кесарию на его хиротонию: «Не поспешил я к тебе тотчас, и не спешу... во-первых, чтобы сохранить честь твою и чтобы не подумали, что ты собираешь своих сторонников... а во-вторых, чтобы и самому мне приобрести постоянство и безукоризненность» (Ep. 45).
Зимой 371/372 годов арианствующий император Валент разделил Каппадокию на 2 провинции. Близкий к императору (в том числе в вопросах вероучения) Анфим, епископ Тианы - центра новосозданной провинции,- решил использовать эту ситуацию для приобретения церковной власти над всей Каппадокией Второй (не претендуя ни на Кесарию, ни на другие кафедры Каппадокии Первой). Сопротивляясь этому, а также опасясь усиления сторонников умеренного арианства, святитель Василий решил увеличить число архиереев среди своих сторонников путем создания в Каппадокии ряда новых епископских кафедр. Одним из поселений, где святитель Василий создал такую кафедру, стали Сасимы, куда он назначил Григория Богослова. Епископская хиротония Григория Богослова (372 год; в том же году святитель Василий рукоположил во епископа своего брата святителя Григория Нисского, а в 374 году - двоюродного брата Григория Богослова святителя Амфилохия Иконийского), благодаря которой взамен созерцания и «философской» жизни он оказался вовлеченным в локальный церковно-политический конфликт,- один из самых тяжелых эпизодов в его жизни, о котором он не мог вспоминать без глубокого сожаления. Григорий Богослов принял хиротонию, однако, не пожелав вступать в войну с епископом Анфимом, ушел в пустыню и предался безмолвию. Пробыв некоторое время в уединении, он по просьбе отца вернулся в Назианз, где помогал ему до его смерти (374 год; несколько месяцев спустя скончалась и мать святителя). Незадолго до кончины святителя Григория (старшего) Назианз посетил епископ Анфим. Целью его визита было, очевидно, привлечение обоих Григориев на свою сторону: вероятно, он пытался воспользоваться возникшей между Григорием Богословом и святителем Василием размолвкой. Однако оба Григория подтвердили свою полную лояльность святителю Василию.
После смерти отца Григорий Богослов временно принял на себя управление Назианзской Церковью; тяготясь этим служением, он предложил епископам соседних городов избрать нового предстоятеля Назианза, но они отказались, желая видеть на этой кафедре самого Григория Богослова. Некоторое время (вероятно, с 375 по 379 годы) он провел в женском монастыре первомц. Феклы в Селевкии Исаврийской (De vita sua // PG. 37. Col. 1065-1066; некоторые исследователи локализуют место уединения Григория Богослова в Селевкии в Киликии или на Тигре), недалеко от Иконии, где до этого жила его сестра святого Горгония и где епископом был святитель Амфилохий. В эти годы Григорий Богослов мог близко ознакомиться с церковной ситуацией в Антиохии, где паства разделилась не только на сторонников арианства и православных, но и сами православные не были едины - право занимать Антиохийскую кафедру оспаривали православные епископы святитель Мелетий и Павлин III. Этот конфликт продолжался с начала 60-х годов, когда на место святителя Мелетия, изгнанного из города арианами, при поддержке Александрии и Рима был рукоположен Павлин, сторонник более жесткой церковной политики в отношении ариан, чем святитель Мелетий. Впоследствии, когда святитель Мелетий вернулся в Антиохию, Павлин не вступил с ним в общение, из-за чего образовался длительный раскол. По утверждению историков Сократа и Созомена, между мелетианами и павлинианами в Антиохии к началу 80-х годов существовало соглашение, по которому оба епископа управляли паствой совместно: по смерти одного другой должен был быть признан единственным законным епископом (Socr. Schol. Hist. eccl. V 5; Sozom. Hist. eccl. VII 3). По другой версии, святитель Мелетий в 380 году получил от гражданских властей официальное право на управление епархией, а Павлин остался не у дел (Theodoret. Hist. eccl. V 3). Впоследсвтии этот конфликт оказал влияние на ход Вселенского II Собора и на жизнь Григория Богослова.
Константинопольский период
За годы епископства Григорий Богослов сделался известен как ревностный защитник никейской веры. В последние годы жизни императора Валента епископом Константинополя был Демофил, глава партии омиев. После смерти императора Валента (9 августа 378), группа константинопольских православных, не желавшая принимать епископа Демофила, пригласила Григория Богослова возглавить их. Под давлением со стороны единомышленников (в том числе, возможно, святителя Василия Великого, скончавшегося 1 января 379 года) Григорий Богослов принял это предложение и прибыл в столицу весной или осенью 379 года. Все церкви Константинополя находились в руках подвластного Демофилу клира, поэтому святитель начал совершать богослужения в небольшом домовом храме, устроенном в одном из помещений виллы сенатора Авлавия (женатого на двоюродной сестре Григория Богослова Феодосии), где святой нашел себе пристанище и которая была расположена в центре города. Святитель дал храму имя «Анастасия» (Воскресение) в знак победы Православия над арианством (Or. 42 // PG. 36. Col. 489; см.: Janin. Églises et monastères. P. 22-25; Snee R. Gregory Nazianzen's Anastasia... // DOP. 1998. Vol. 52. P. 157-186). Еретики употребляли различные способы, чтобы изгнать Григория Богослова из столицы. Сначала его обвинили в «тритеизме» - будто вместо единого Бога он вводит трех богов (Ibid. Col. 1074). Затем начались попытки физической расправы. Однажды, когда Григорий Богослов совершал таинство Крещения, в храм ворвалась толпа арианствующих, в том числе монахов, которые требовали изгнания Григория Богослова и бросали в него камни, после чего, обвинив в убийстве, привели для разбирательства к городским правителям. Последние, хотя и отнеслись к Григорию Богослову неблагосклонно, но не поддержали клеветников, так как невиновность Григория Богослова. была очевидна (Ibid. Col. 1075-1076; Ep. 77).
В 1-й половине 380 года против Григория Богослова была организована интрига, которую возглавил Максим-киник - философ, обратившийся в христианство и стоявший на никейских позициях,- прибывший в Константинополь из Александрии. Его прошлое весьма сомнительно: он был дважды судим, подвергнут бичеванию и изгнан из своего города. Однако Григорий Богослов узнал обо всем этом позже: поначалу он был уверен, что Максим - исповедник никейской веры, пострадавший за свои убеждения. Григорий Богослов, сам будучи ритором и философом, проникся глубокой симпатией к Максиму. Он произнес в честь «Ирона» (то есть Максима) похвальное слово, в котором создал образ человека, сочетавшего в себе мудрость философа с ревностью христианина (Or. 25). О том, что Максим и Ирон - одно и то же лицо, свидетельствует блаженный Иероним, который говорит о 25-м слове следующее: «Похвальное слово Максиму-философу по возвращении его из ссылки, имя которого в заглавии некоторые несправедливо заменили именем Ирона на том основании, что есть другое сочинение Григория, заключающее в себе порицание этого Максима - как будто нельзя было одного и того же человека в одно время хвалить, а в другое время - порицать» (Hieron. De vir. illustr. 117; подробнее об Ироне-Максиме см.: Mossay. 1982; Hauser-Meury. P. 119-121). Григорий Богослов приблизил Максима, поселил у себя в доме и делил с ним трапезу, за которой епископ и философ вели продолжительные беседы (De vita sua // PG. 37. Col. 1085). В то же время втайне от Г. Б. Максим готовил интригу, задуманную в Александрии,- вероятно, при участии Петра II, архиеп. Александрийского, который сначала в письменной форме поздравил Григория Богослова с началом его служения в Константинополе, но затем попытался его сместить (Ibid. Col. 1088). Поскольку Григорий Богослов не был официально утвержденным епископом столицы, а лишь по приглашению группы верующих нес там служение, александрийская партия решила попытаться отнять у него власть. Весной 380 года в Константинополь прибыли первые корабли из Египта с грузом пшеницы, вместе с которыми в столице появились многие египетские клирики и монахи; Григорий Богослов радостно приветствовал их как сторонников никейского исповедания (Or. 34). Однако в начале лета 380 года, ночью, в одном из константинопольских храмов, когда Григорий Богослов лежал дома больной, египетские епископы начали совершать рукоположение Максима. Об этом стало известно, так что с наступлением утра негодующие толпы людей собрались к храму и изгнали оттуда египетских епископов, которым поэтому пришлось окончить церемонию в доме некоего флейтиста. Максим бежал из Константинополя, но, будучи признан некоторыми западными епископами, не считал себя окончательно побежденным и отправился в Фессалонику, надеясь добиться утверждения своего назначения императором святым Феодосием. Государь, тем не менее, встал на сторону Григория Богослова, и Максим уехал ни с чем.
В феврале 380 года, с момента издания императором святым Феодосием эдикта о никейской вере, началась подготовка ко II Вселенскому Собору. Целью Собора должно было стать утверждение никейского исповедания и избрание епископа для Константинопольской кафедры. Но вопрос о епископе был заранее решен императором святым Феодосием: единственным достойным кандидатом представлялся ему Григорий Богослов. Император святой Феодосий вступил в столицу 24 ноября 380 года, после победоносной кампании против готов. Сразу по прибытии он встретился с епископом Демофилом, которому предложил подписать православное исповедание веры. Когда тот отказался, он и его сторонники из числа клириков были изгнаны (26 ноября) из Константинополя; Константинопольская кафедра формально оказалась свободной. На следующий день была устроена торжественная процессия императора и армии по Константинополю, во время которой Григорий Богослов был приглашен шествовать рядом с самодержцем; процессия окончилась в храме святых Апостолов, в то время главной церкви города. Передав ее в управление святителя, святой Феодосий указал этим на то, кого он считает архиепископом Константинопольским. Хотя триумф Григория Богослова был полным, ариане предприняли последнюю отчаянную попытку изменить ситуацию в свою пользу: когда епископ был тяжело болен, к нему подослали убийцу. Последний, однако, явился с повинной к Григорию Богослову, припав к его ногам со слезами и рыданиями. Узнав о покушении, которое готовилось против него, Григорий Богослов был глубоко тронут раскаянием потенциального убийцы, расплакался и простил его. Об этом случае сразу же узнал весь город (De vita sua // PG. 37. Col. 1129-1131).
На II Вселенском Соборе Григория Богослова участвовал в качестве архиепископа Константинопольского. Вскоре после открытия Собора умер его председатель, святитель Мелетий Антиохийский; председательство на Соборе было поручено Григорию Богослову. Предстояло решить вопрос об антиохийском расколе. Поскольку соперник святителя Мелетия Павлин был еще жив, самым простым решением было бы признать Павлина единственным по смерти святителя Мелетия законным епископом Антиохии. Именно на таком решении настаивал Запад; с этим предложением и выступил Григорий Богослов. Он произнес длинную речь, в которой рекомендовал оставить Антиохийский престол в руках того, кто уже владеет им, то есть Павлина. Он также попросил позволения удалиться на покой и предложил избрать нового епископа на Константинопольский престол (Ibid. Col. 1140-1146). Григорий Богослов преследовал единственную цель - способствовать прекращению раскола и восстановлению церковного мира. Но восточные епископы сочли унизительным для себя принять вариант, навязанный им Западом. Предложение Григория Богослова по прекращению антиохийского раскола было отвергнуто и на место святителя Мелетия избран антиохийский пресвятой Флавиан. Григорий Богослов стал реже посещать соборные заседания, к этому вынуждала его и болезнь. Формально он оставался председателем Собора. Вскоре на Собор прибыли египетские епископы во главе с Тимофеем, преемником епископа Петра Александрийского. Обнаружив, что все важные дела обговорены и решены в их отсутствие, что их ставленник Максим осужден, что Павлин, которого они поддерживали, не получил Антиохийский престол, египетские епископы выступили с протестом против Григория Богослова. Последнего обвинили в том, что он занял кафедру вопреки 15-му прав. I Вселенского Собора, которое запрещает епископу одного города принимать на себя управление Церковью другого города. Хотя это правило нередко нарушалось на практике, формально его никто не отменял. Не желая быть причиной раздора, святитель в своем выступлении сказал: «Вы, которых собрал Бог для совещания о делах богоугодных, вопрос обо мне считайте второстепенным... Долго ли будут смеяться над нами как над людьми неукротимыми, которые научились одному только - дышать ссорами? Подайте с усердием друг другу руку общения. А я пусть буду пророком Ионою и, хотя не виновен в буре, жертвую собой для спасения корабля. Возьмите и бросьте меня по жребию. Какой-нибудь гостеприимный кит в морских глубинах даст мне убежище» (Ibid. Col. 1157-1159). Отставка Григория Богослова была принята Собором и утверждена императором святым Феодосием. На место Григория Богослова по предложению императора избрали константинопольского претора и сенатора Нектария, который состоял в чине оглашенных: в течение нескольких дней приняв таинство Крещения и будучи рукоположен в архиерейский сан, он стал архиепископом Константинополя и занял председательское место на Соборе. Главной причиной своей отставки помимо зависти епископов Григорий Богослов считал не расхождения с Собором по церковно-политическим вопросам, но догматические расхождения по вопросу о божестве Святого Духа. На Соборе слова из Никейского Символа веры «И в Духа Святого» были существенно расширены: «И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца исходящего, со Отцом и Сыном споклоняемого и сславимого, вещавшего через пророков». Однако в этих словах нет ни прямого утверждения о божестве Святого Духа, ни утверждения о единосущии Духа Сыну и Отцу. Отвергнув ересь пневматомахов и признав Духа равным Отцу и Сыну, участники Собора не согласились прямо внести утверждение о божестве Святого Духа и Его единосущии Отцу в Символ, чего, по-видимому, добивался Григорий Богослов.
Последние годы
Покинув Константинополь, Григорий Богослов вернулся на родину с твердым намерением навсегда оставить общественную деятельность и «сосредоточиться в Боге» (De vita sua // PG. 37. Col. 1164): он желал посвятить остаток дней уединению и молитве. В Назианзе он нашел церковные дела в том же состоянии, что и 6 лет назад: епископ так и не был избран. Городской клир вновь обратился к Григорию Богослову с просьбой принять на себя управление епископией. Около года Григорий Богослов, несмотря на частые болезни, управлял епископией, но «как посторонний», то есть по-прежнему как епископ другого города (Ep. 182). В 382 году в Константинополе состоялся еще один церковный Собор, на который приглашали Григория Богослова, но он решительно отказался ехать (Ep. 139). Не поехав на Собор, Григорий Богослов, однако, пытался на расстоянии воздействовать на его исход, посылая письма влиятельным друзьям (Ep. 132; 135). К концу 383 года здоровье Григория Богослова было окончательно подорвано, и он попросил отставки у епископа Феодора Тианского (Ep. 152). Тот удовлетворил просьбу Григория Богослова и назначил в Назианз хорепископа Евлалия, одного из ближайших помощников и родственника Григория Богослова. К этому времени относится обострение в отношениях Григорий Богослова и преемника святителя Василия Великого на Кесарийской кафедре Елладия по поводу поставления на Назианзский престол нового епископа (Ep. 139, 146; Devos. P. 91-120). Вскоре Григорий Богослов удалился в фамильное имение, где провел остаток дней, ведя аскетический образ жизни и занимаясь литературной деятельностью. Умер Григорий Богослов в 389 году или 390 году, как об этом свидетельствует блаженный Иероним (Hieron. De vir. illustr. 117), или, следуя лексикону Суды, на 13-й год правления императора святого Феодосия Великого, то есть в 391 году (Suda. Lex. 450). П. Нотен предлагает уточненную датировку - 390 год (Nautin. P. 33-35). В составленном им в конце жизни официальном Завещании Григорий Богослов передал свое немалое семейное имение Назианзской Церкви для попечения о бедных (что было волей и его отца); лишь отдельным ближайшим друзьям и соратникам он завещал различные предметы одежды и нек-рые суммы денег.
Сочинения (подлинные). Литературное наследие Григория Богослова включает слова, стихотворения и письма. В прозе, как и в стихах, он сочетал высокое риторическое мастерство с совершенством формы и стиля. Блаженный Иероним Стридонский, перечисляя некоторые его труды, называет Григория Богослова одним из лучших ораторов и отмечает, что «стиль речи он унаследовал от Полемона» (Hieron. De vir. illustr. 117; ср.: Idem. Ep. 50 (рус. пер. 48). 1). Единственное полное собрание творений Григория Богослова в Патрологии Ж.П. Миня (PG. 35-38) воспроизводит еditio princeps - издание бенедиктинцев конгрегации святого Мавра в Париже (Т. 1. 1778. Т. 2 не смог появиться вскоре из-за Французской революции и увидел свет лишь в 1842 году). Редакторы пользовались более ранним изданием Morel-Billy (1609), который в свою очередь использовал базельское издание (1550) (смотреть: Gallay. 1957. P. 114-122; Misier. 1903).
Слова (гомилии)
До настоящего времени дошло 45 слов Григория Богослова, бо́льшая часть которых относится к константинопольскому периоду его деятельности (379-381). В основном это произнесенные слова, записанные скорописцами и затем исправленные святителем. Аутентичность слов не подвергается сомнению. Исключение составляет 35-е слово, «В память мучеников и против ариан» (Εἰς τοὺς μάρτυρας, καὶ κατὰ ᾿Αρειανῶν, De martyribus et adversus Arianos), признанное неподлинным (Masson M.-P. Le Discours 35 de Grégoire de Nazianze: questions d'authenticité // Pallas. 1984. P. 179-188; Moreschini. Introduction. 1985. P. 38-39). Текстологический анализ (и, следовательно, установление наиболее надежного текста) слов Григория Богослова осложняется тем, что они сохранились в огромном количестве рукописей - только греческих списков слов старше середины XVI века известно около 1500 года (полный список смотреть в книге: Mossay. 1981-1998). Для текстологии слов самостоятельное значение имеют также и их многочисленные переводы на древние языки: латинский (9 слов в переводе Руфина Аквилейского 399-400 годы), сирийский (все слова), армянский (41 слово), арабский (30 слов), грузинский (19 слов), коптский (1 слово и фрагменты), эфиопский (1 слово), славянский (древнейшие рукописи содержат 13 слов; впоследсвтии был переведен весь корпус слов литургической коллекции. Ф. Томсон отказывал славянским переводам в каком-либо значении для текстологии слов в целом (Thomson. 1983), но А.М. Бруни доказал, что эта позиция ошибочна (Бруни. 2004)).
Различные издания слов существуют с XVI века (особое значение имеет выполненное парижскими бенедиктинцами A.Б. Кайо и Ш. Клемансе (1778), поскольку именно оно воспроизведено в томах 35-36 PG), но попытка подготовки критического текста полного корпуса слов Григория Богослова (а равно и других произведений святителя) была впервые предпринята только в 1913-1930 годы Л. Штернбахом, Я. Сайдаком, Т. Синко и С. Витковским (BZ. 1929-1930. Bd. 38. S. 269). Из-за второй мировой войны начатый этими польскими исследователями проект не был доведен до конца, но тем не менее представления о текстологии слов, содержащиеся в единственной существенной монографии, вышедшей в рамках этого проекта (Sinko. 1923), вплоть до конца XX века стали общепринятыми при критическом издании слов.
Для изучения истории бытования слов в рукописях большое значение имеет тот факт, что они представлены и как собрание полного корпуса, и как выборочные коллекции, содержащие лишь часть слов. Основными типами таких выборочных коллекций являются литургическая коллекция, содержащая слова 1, 11, 14-16, 19, 21, 24, 38-45 (которые в византийской традиции читались за богослужением в определенные дни года), и коллекция «не читаемых (за богослужением) слов» (οἱ μὴ ἀναγινωσκόμενοι Λόγοι), содержащая остальные слова. Кроме этих 2 и полной коллекций в рукописях встречаются литургическая коллекция с прибавлением некоторых из нечитаемых слов и собрания нетипичного состава; во мн. рукописях слова сопровождаются комментариями.
Основные выводы, к которым пришел Синко, состоят в том, что для текстологии слов значение имеет, во-первых, только полная коллекция, во-вторых, все рукописи этой коллекции следует соотносить с одной из 2 фамилий (N и M). Для каждой характерен свой порядок слов, и они соответствуют 2 типам текста. Именно эти выводы лежат в основе критического издания слов в серии «Sources Chrétiennes», подготовленного на материале 10 древнейших греческих рукописей полной коллекции, 6 из которых принадлежат к фамилии N, 4 - к фамилии M.
В настоящее время текстологические выводы Синко в целом опровергнуты (что, в частности, лишает определяющего значения тексты, вышедшие в серии «Sources Chrétiennes»). Как показала В. Сомер, рукописи полной коллекции слов принципиально не сводятся к 2 фамилиям, а тот или иной порядок слов не обязательно соответствует тому или иному типу текста (Somers. 1997); нельзя также брать за основу критического издания слов лишь полные их коллекции (Somers-(Auwers). 2002).
Лучшие научные издания слов выходят в подсерии «Corpus Nazianzenum» (CN), публикуемой в рамках серии «Corpus Christianorum. Series Graeca» Центром исследований Григория Богослова (Centre d'Études sur Grégoire de Nazianze) в Лёвене; к настоящему времени число вышедших в серии CN томов (содержащих новейшие издания греческого текста, древних переводов слов Григория Богослова, а также древних толкований слов и текстологических исследований) уже превысило 3 десятка, но работа далека от завершения.
I. Догматические. По содержанию большая часть слов имеет догматический характер, наиболее известные из них - «Пять слов о богословии» (Λόγοι θεολογικοί; Or. 27-31), произнесенные летом 380 года (смотреть, например: Norris. 1991 год). Именно это сочинение снискало Григория Богослова имя «Богослов». Гипотеза Р. Вейенборга о непринадлежности этих слов Григорию Богослову (Weijenborg. 1973) была опровергнута Доротеей Вендебург (Wendebourg. 1980.; ср.: Gallay. Introduction. 1978. P. 7).
Их датировка вызывает разногласия среди исследователей: Синко полагает, что они были произнесены летом 380 года; С. Тильмон указывал 379 год (Sinko. P. 27-31; Tillemont. Mémoires. T. 9); Я. Шимусяк считает, что первые 4 произнесены Великим постом 380 года, еще до конфликта с Максимом-киником, а последнее слово о Святом Духе 2 месяцами позже - на Пятидесятницу 31 мая; подготовкой же к ним Григорий Богослов был занят зимой 379/380 годов (Szymusiak. Pour une chronologie...); с этой датировкой не вполне согласен П. Галле: по его мнению, слова были произнесены между эпизодом с Максимом-киником и до вхождения императора святого Феодосия в столицу, то есть с июля по ноябрь 380 года (Gallay. Introduction. 1978. P. 13-14). Дж. Мак-Гакин датирует слова летом 380 года.
В 27-м слове, «Против евномиан» (Κατὰ Εὐνομιανῶν, Adversus Eunomianos), составляющем введение к остальным, Григорий Богослов рассуждает о том, каким должен быть истинный богослов: кто может богословствовать, перед кем, когда, в какой мере и о чем. В 28-м слове, «О богословии» (Περὶ θεολογίας, De theologia), говорится о Боге в Самом Себе, то есть о сущности, природе и свойствах Бога. 29-е, «О Боге Сыне» (первое) (Περὶ Υἱοῦ, De Filio), содержит систематическое учение о Боге Сыне, направленное против арианства, посвящено единству Ипостасей Святой Троицы, в частности единству Отца и Сына. В 30-м, «О Боге Сыне» (втором), затрагивается вопрос о божественной и человеческой природах в воплотившемся Боге, а также перечисляются имена Сына, встречающиеся в Священном Писании. Наконец, в 31-м слове, «О Святом Духе» (Περὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, De Spiritu Sancto), Григорий Богослов, опровергая македониан, доказывает божественное достоинство Святого Духа и равенство Его двум другим Ипостасям Святой Троицы. «Пять слов» служат классическим изложением православной триадологии. В течение всей истории Византии они оставались наиболее авторитетным и широко читаемым сочинением на догматическую тему, а уже при жизни Григория Богослова получили известность в качестве своего рода манифеста никейской веры. Написанные накануне II Вселенского Собора, они наряду с другими сочинениями великих каппадокийцев создали почву для полного разгрома арианства и окончательного торжества никейской партии на этом Соборе.
Эти темы затрагиваются также в 32-м и 20-м словах. В 32-м, «О соблюдении доброго порядка в собеседовании» (Περὶ τῆς ἐν διαλέξεσιν εὐταξίας, De moderatione in disputando, 379), Григорий Богослов доказывает, что не каждому и не во всякое время следует богословствовать; в 20-м, «О догмате (Святой Троицы) и о поставлении епископов» (Περὶ δόγματος καὶ καταστάσεως ἐπισκόπων, De dogmate et constitutione episcoporum, 380 год; Синко уточняет название этого слова: Περὶ δόγματος κατ¦ καταστάσεως ἐπισκόπων - «О догмате (Святой Троицы) во оповещение епископов» - Sinko. P. 65; ср.: Mossay. Introduction. 1980. P. 45-50; вероятно, это слово было написано при вступлении в управление православной общиной Константинополя и, тем самым, имело характер исповедания веры нового епископа), особенно порицает тех, кто принимаются богословствовать, не изучив Священного Писания, не заботясь о нравственной чистоте (подразумевая жителей Константинополя, имевших страсть к богословским спорам); в данном слове, произнесенном вскоре по прибытии в Константинополь, Григорий Богослов излагает классическое новоникейское учение о Святой Троице против Савеллия и Ария: говорит о равенстве Лиц Святой Троицы, выясняет понятие «начала» (ἀρχή) применительно к Сыну и говорит о вневременном рождении Сына.
II. Похвальные и надгробные. 7-е слово под названием «Надгробное брату Кесарию» (Εἰς Καισάριον τὸν αυτοῦ ἀδελφὸν ἐπιτάφιος, Funebris in laudem Caesarii fratris oratio) посвящено памяти безвременно скончавшегося брата, которого Григорий Богослов особенно восхваляет за его любовь к наукам, в том числе естественным - геометрии, астрономии и математике: «Восток, Запад и все страны, где только впоследствии бывал Кесарий, служат знаменитыми памятниками его учености». В 8-м слове, «Надгробном сестре Горгонии» (Εἰς τὴν ἀδελφὴν αυτοῦ Γοργονίαν, In laudem sororis suae Gorgoniae), Григорий Богослов говорит об аскетизме и глубоком благочестии сестры. В обоих сочинениях, а также в 18-м слове «Надгробном отцу» (᾿Επιτάφιος εἰς τὸν πατέρα, Funebris oratio in patrem), Григорий Богослов неоднократно обращается с теплыми словами к родителям. В 11-м слове, приветственном святителю Григорию Нисскому (Εἰς Γρηγόριον Νύσσης, Ad Gregorium Nyssenum), автор говорит о любви к нему и о том, как следует совершать память мучеников. 13-е слово (Εἰς τὴν χειροτονίαν Δοαρῶν ὁμιλία ἐκδοθεῖσα Εὐλαλίῳ ἐπισκόπῳ, In consecratione Eulalii Doarensium episcopi) обращено к Евлалию, другу святителя, по случаю его хиротонии во епископа Доарского; 15-е (в русском переводе 16-е) произнесено «На день мучеников Маккавеев» (Εἰς τοὺς Μακκαβαίους, In Machabaeorum laudem). 21-е слово, «Похвальное Афанасию Великому» (Εἰς τὸν μέγαν ᾿Αθανάσιον, In laudem Athanasii), служит богатым источником сведений об этом старшем современнике Григория Богослова 24-е слово посвящено памяти священномученика Киприана, епископа Карфагенского (Εἰς τὸν ἅγιον Κυπριανὸν, In laudem s. Cypriani). В 25-м слове (Εἰς ῞Ηρωνα τὸν φιλόσοφον, In laudem Heronis philosophi) Григорий Богослов обращается к философу Ирону (то есть Максиму-кинику), вернувшемуся из изгнания, приводя его в пример как человека, сочетавшего в себе любовь к философии с христианским благочестием. Непревзойденным по силе и глубине является 43-е слово, «Надгробное Василию Великому» (Εἰς τὸν μέγαν Βασίλειον ἐπιτάφιος, Funebris oratio in laudem Basilii Magni; 379), в котором Григорий Богослов излагает самые сокровенные мысли - о своей любви к Афинам и к эллинской учености, об уединенной и безмолвной жизни, о догмате Святой Троицы. Восхваляя и прославляя святость умершего, Григорий Богослов говорит о его человеческих качествах: это не идеализированный образ подвижника, но живой портрет, написанный реалистично и ярко.
III. На разные случаи, автобиографические и защитительные. Слова 1-3 объединены одной общей темой: в них Григорий Богослов оправдывается в связи со своим удалением в Понт после пресвитерской хиротонии (Εἰς τὸν ἅγιον Πάσχα καὶ εἰς τὴν βραδυτῆτα, In sanctum Pascha et in tarditatem; ᾿Απολογητικός, Apologetica; Πρὸς τοὺς καλέσαντας, καὶ μὴ ἀπαντήσαντας, Ad eos qui ipsum acciverant nec occurrerant, около 362 года). В 3-м слове Григорий Богослов учит о важности сана священника, каков должен быть епископ, излагает основы пастырства в христианской Церкви. Слово стало классическим трактатом о священстве, и впоследствии святитель Иоанн Златоуст использовал его в качестве источника для своих «Шести слов о священстве». 6-е слово (Εἰρηνικὸς α´, De pace 1) произнесено после окончания периода, на который Григорий Богослов дал обет молчания: оно посвящено возвращению в лоно Церкви группы назианзских монахов. В словах 9-10 Григорий Богослов оправдывает свое бегство в уединение после епископской хиротонии (᾿Απολογητικὸς εἰς τὸν αυτοῦ πατέρα, Apologeticus ad patrem; Εἰς αυτὸν καὶ εἰς τὸν πατέρα καὶ Βασίλειον τὸν μέγαν, In seipsum, ad patrem et Basilium magnum; 371 год): оба они произнесены в присутствии его отца и святителя Василия Великого. 12-е слово, обращенное к отцу, произнесено после того, как последний вручил Григорию Богослову управление Назианзской епископией (Εἰς τὸν πατέρα αυτοῦ, Ad patrem; около 371 года). В 16-м слове (в русскрм переводе 15-е), «Произнесенном в присутствии отца, который безмолвствовал от скорби, после того как град опустошил поля» (Εἰς τὸν πατέρα σιωπῶντα διὰ τὴν πληγὴν τῆς χαλάζης, In patrem tacentem propter plagam grandinis), Григорий Богослов утешает отца по случаю происшедшего стихийного бедствия, а в 17-м (Πρὸς τοὺς πολιτευομένους Ναζιανζοῦ ἀγωνιῶντας, Ad cives Nazianzenos gravi timore perculsos) успокаивает жителей Назианза и разгневанного градоначальника. 19-е слово (Εἰς τὸν ἐξισωτὴν ᾿Ιουλιανόν, Ad Julianum tributorum exaequatorem) произнесено по случаю произведенной императором Юлианом Отступником переписи населения. Григорий Богослов напоминает императору Юлиану, своему «наилучшему другу и сверстнику, слушавшему с ним одних учителей и одни уроки», о той «переписи», которую совершит Бог при кончине мира, когда дела каждого, вписанные Богом в книгу жизни, будут объявлены и каждый понесет наказание за свои пороки. С. Пападопулос относит это слово ко времени после Рождества 374 года (Παπαδόπουλος Στ.. Πατρολογία. ᾿Αθῆναι, 1990. Τ. 2. Σ. 521). Слова 22-23 (Εἰρηνικὸς β´, γ´, De pace 2-3) произнесены в Константинополе по поводу распри между православными и арианами: Григорий Богослов призывает враждующие партии к миру и излагает никейское учение о Святой Троице. В 26-м слове (Εἰς αυτὸν ἐξ ἀγροῦ ἐπανήκοντα μετὰ τὰ κατὰ Μάξιμον, In seipsum, cum rure rediisset, post ea quae a Maximo perpetrata fuerant) он рассказывает о том, как Максим-киник хотел захватить Константинопольский престол. В словах 33-34 (Πρὸς ᾿Αρειανοὺς καὶ εἰς αυτὸν, Contra Arianos et de seipso; Εἰς τοὺς Αἰγύπτου ἐπιδημήσαντας, In Aegyptiorum adventum) Григорий Богослов оправдывается от обвинений, возводимых на него арианами, а в 36-м слове (Εἰς αυτόν καὶ πρὸς τοὺς λέγοντας ἐπιθυμεῖν αὐτὸν τῆς καθέδρας Κωνσταντινουπόλεως, De seipso et ad eos qui ipsum cathedram Constantinopolitanam affectare dicebant) говорит о том, что он никогда не стремился занять Константинопольскую кафедру. 42-е слово, «Прощальное, произнесенное во время прибытия в Константинополь 150 епископов» (Συντακτήριος, Supremum vale; 381), является апологией Григория Богослова, обращенной к отцам II Вселенского Собора: он отвергает возводимые на него обвинения, обращается с прощальными словами к пастве и основанному им храму Анастасии.
IV. Обличительные. 2 трактата, «Обличительные на царя Юлиана» (Слова 4-5; Κατὰ ᾿Ιουλιανοῦ βασιλέως, Contra Julianum imperatorem), посвящены императору-отступнику. Трактаты были написаны уже после смерти Юлиана (26 июня 363), хотя начаты, вероятно, во время удаления Григория Богослова из Назианза, вскоре по принятии им священного сана (Or. 5. 39; Bernardi. Introduction. 1983. P. 36), а закончены и опубликованы в конце 364 - начале 365 годов (Lugaresi L. Introduzione // Gregorio di Nazianzo. Contro Giuliano l'Apostata: Or. 4. Firenze, 1993 год. P. 45). Григорий Богослов выступал не столько против убеждений уже умершего Юлиана, сколько против волны языческой реакции, вызванной недолгим правлением Отступника. Григорий Богослов, по всей видимости, почти не был знаком с его сочинениями, в том числе направленными против христиан; его задачами было лишить Отступника ореола славы, который мог соблазнить умеренных язычников; вразумить христиан, накликавших на себя эту напасть; отстоять право христиан на общую культуру и образование (Bernardi. Introduction. 1983. P. 48-66).
V. Праздничные слова и проповеди. Деятельность Григория Богослова как проповедника началась со слова на Пасху (Or. 1), произнесенного вскоре после пресвитерской хиротонии, и завершилась словом на Пасху, написанным после оставления Константинопольской кафедры (Or. 45 - Εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα, In sanctum Pascha). 38-е слово произнесено на Богоявление (Εἰς τὰ Θεοφάνια, In Theophania, 25 декабря 379 года) - праздник, когда одновременно совершалось воспоминание Рождества и Крещения Господня; 2 слова произнесены на Крещение (6 и 7 янаря 380 года): 39-е - «На святые светы» (Εἰς τὰ ἅγια Θῶτα, In sancta lumina) и 40-е (Εἰς τὸ ἅγιον βάπτισμα, In sanctum baptisma). Возможно, что слова 38-40 образуют единый богоявленский цикл из 3 слов; впрочем, некоторые исследователи полагают, что слова 38 и 39 были произнесены Григорием Богословом на уже разделившиеся праздники Рождества Христова и Богоявления, считая слово 38 самым ранним к-польским свидетельством о таком разделении в греческой традиции (смотреть: Roll S. K. Towards the Origins of Christmas. Kampen, 1995 год; Mossay J. Les fêtes de Noël et de l'Epiphanie d'après les sources littéraires cappadociens du IVe siècle. Louvain, 1965. P. 34). 41-е слово произнесено на Пятидесятницу (Εἰς τὴν Πεντηκοστήν, In Pentecosten), 44-е - на Неделю новую (Фомину) (Εἰς τὴν καινὴν Κυριακήν, In novam Dominicam). Проповеди Григория Богослова, посвященные церковным праздникам, отличаются исключительным богатством богословского содержания, их влияние на историю православного богослужения нельзя переоценить.
К проповедям относится также 14-е слово, «О любви к бедным» (Περὶ φιλοπτωχίας, De pauperum amore), в котором Григорий Богослов говорит о благотворительности и милосердии. 37-е слово (на Мф 19. 1 - Εἰς τὸ ῥητὸν τοῦ Εὐαγγελίου̇ «῞Οτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς λόγους τούτους», In dictum Evangelii: Cum consummasset Jesus hos sermones) является единственной собственно экзегетической проповедью Григория Богослова.
Поэтические произведения
I. Стихотворения. Сохранившееся поэтическое наследие святителя включает 408 стихотворений, большинство из которых относятся к последнему периоду его жизни. В сочинении «О стихах своих» Григорий Богослов объясняет причины, побудившие его на склоне лет заняться поэзией: желание связать собственное красноречие и научиться, заботясь о метре, немногими словами выражать многое; «горечь заповедей подсластить искусством», то есть сделать чтение нравственных заповедей более приятным; противопоставить собственно христианскую поэзию стихам еретиков; наконец, изнуряемый болезнью святитель находил в стихах утешение. Григорий Богослов писал архаическим языком, использовал традиционным для древнегреческой поэзии размеры, основанные на чередовании долгих и кратких слогов (гекзаметр, элегический дистих, ямб, ямбический триметр и пентаметр), нередко подражал Гомеру, Еврипиду и другим античным поэтам. В его стихах не обнаруживается влияния сирийской поэтики, характерной, например, для преподобного Романа Сладкопевца (Musurillo. P. 46). Стихи Григория Богослова посвящены различным аспектам христианской жизни, в них отражено большинство богословских тем, разбираемых в других сочинениях святителя.
Критического издания поэтического корпуса Григория Богослова не существует (за исключением некоторых произведений). 1-е печатное издание небольшого числа стихотворений Григория Богослова с параллельным латинским переводом осуществил Альд Мануций в Венеции в 1504 году (латинский перевод сопровождался одним из первых в истории изданий фрагментов греческого текста НЗ: Ин 1. 1 - 6. 58). В дальнейшем стихотворения Григория Богослова печатались в собраниях его творений. Так, во 2-м тексте парижского издания Ж. де Билли (1630) было опубликовано 166 стихотворений Григория Богослова. В конце XVII - начале XVIII века было найдено много новых, неизданных поэтических произведений Григория Богослова. Важнейшие издания их отдельно от слов и писем были сделаны Я. Толлием (1696; 20 стихотворений) и Л.А. Муратори (1709; 222 эпитафии и эпиграммы). Полный корпус поэтических произведений Григория Богослова (в количестве 408) впервые был издан во 2-м томе бенедиктинского издания Кайо (1842) и воспроизведен в «Патрологии» Миня. В этих последних изданиях корпус подразделяется на 2 книги: в 1-й содержатся «Богословские стихотворения» (Carmina theologica), разделенные в свою очередь на 38 догматических (Carmina dogmatica) и 40 нравственных (Carmina moralia). Среди догматических стихотворений выделяется цикл «Песнопения таинственные» (Carm. dogm. 1-5, 7-9) - своего рода краткий курс догматики, изложенный в поэтической форме и включающий стихотворения об основах богословия, о Сыне, о Святом Духе, о мире, о Промысле Божием, об ангелах, о душе, о пришествии Христа, о человеке и другие. Отдельные стихотворения посвящены притчам и чудесам Иисуса Христа, числу канонических книг Священного Писания («О подлинных книгах богодухновенного Писания» - Carm. dogm. 12). Нравственные стихотворения раскрывают аскетическую проблематику, в них рассматриваются вопросы целомудрия, добровольной нищеты, борьбы со страстями, духовной и мирской жизни и так далее.
2-я книга содержит исторические стихотворения (Carmina historica) и разделена на 2 части: «Стихи о себе самом» (Carmina de se ipso) и «Стихи к другим» (Carmina quae spectant ad alios). Из автобиографических наиболее монументальная - поэма «О своей жизни» (De vita sua (Carm. de se ipso 11)), состоящая из 1949 стихов. Она является основным источником сведений о жизни Григория Богослова от его рождения до удаления из Константинополя и лучшей автобиографией, написанной в Византии в эту эпоху. К ней примыкает (в издании Миня) поэма «О себе самом и о епископах» (Carm. de se ipso 12). Традиционный взгляд на нее как на дополнение к поэме «О своей жизни» (Gregorio Nazianzeno. Fuga e autobiografia / Trad., introd., note a cura di L.Viscanti. R., 1987. (Testi patristici; 62)) в последнее время оспаривается: на основании того, что Григорий Богослов не упоминает имени своего преемника, святителя Нектария, делается вывод о том, что произведение написано не позднее 9 июля 381 года - дня последнего заседания, на котором председательствовал Григорий Богослов. Кроме того, в поэме имеется четкое хронологическое указание, позволяющее датировать ее именно 381 годом (Carm. de se ipso 12 // PG. 37. Col. 1175). Поэма «О своей жизни» датируется, напротив, началом 382 года (C. Jungck). Впрочем, неупоминание имени Нектария не может служить достаточным основанием для утверждения, что поэма «О себе самом и о епископах» написана ранее ухода Григория Богослова с Константинопольской кафедры (лучшим доказательством этого являются слова автора - Carm. de se ipso 12 // PG. 37. Col. 1167-1168). К числу автобиографических относятся также «Стихи о самом себе», «Плач о страданиях своей души», «Жалобы на свои страдания» и другие произведения.
II. Среди поэтических сочинений Григория Богослова множество эпиграмм и афоризмов в традиционном эллинистическом стиле греческих антологий, например «Мысли, писанные одностишиями», «Двустишия», «Определения, слегка начертанные». В цикле «Надгробия» Григорий Богослов помещает эпитафии родственникам, друзьям и самому себе. Значительная часть эпитафий представляет увещание девам о воздержании, а также картины смерти и погребения.
III. Под именем Григория Богослова известна трагедия (ὑπόθεσις δραματική - драматическое представление) под названием «Христос страждущий» (Χριστὸς πάσχων, Christus patiens),- единственная религиозноя драма, сохранившаяся до настоящего времени от византийского периода. Она представляет собой центон на тему страданий Христа, состоящий из 2602 ямбических стихов, почти половина которых заимствована из драм Еврипида, а также произведений Эсхила, Гомера и Ликофрона. Рукописная традиция единогласна в атрибуции трагедии Григория Богослова, однако наиболее ранняя известная науке рукопись датируется лишь XIII веком. Уникальность трагедии заключается в том, что это не памятник литургической поэзии, а произведение для театра (Tuilier A. Introduction // Gré goire de Nazianze. La passion du Christ: Tragédie. 1969 год. P. 40. (SC; 149)), античное по форме, но христианское по содержанию. Главным действующим лицом является Богородица; другие герои произведения - Христос, ангел, анонимный Богослов, Иосиф Аримафейский, Никодим, Мария Магдалина, юноша, сидящий при гробе, архиереи, стража, Понтий Пилат, хоры. Речь в произведении идет о последних днях, распятии, смерти, погребении и воскресении Христа. Один из лейтмотивов - тема сошествия Христа во ад - сближает трагедию с рядом кондаков преподобного Романа Сладкопевца. Аутентичность трагедии, впервые опубликованной в 1542 году, вызвала сомнения критиков уже к концу XVI века. В 1588 году Цезарь Бароний (Baronius C. Annales ecclesiastici. R., 1588 год. P. 323), не отвергая авторства Григория Богослова, предположил, что автором трагедии мог быть и Аполлинарий Лаодикийский (старший или младший). В 1593 году Антонио Поссевино (Possevino A. Bibliotheca selecta. Pt. 2. R., 1593 год. P. 289, 300-301), а в 1613 году кард. Роберт Беллармин (Bellarmino R. De scriptoribus ecclesiasticis. Coloniae, 1613 год. P. 73) отвергли авторство Григория Богослова. В XVII-XIX века мнение о псевдоэпиграфическом характере трагедии стало в науке общепринятым. В числе возможных авторов трагедии называли Григория I, патриарха Антиохийского (VI век), Иоанна Цеца (XII век), Феодора Продрома (XII век), Константина Манасси (XII век), а также неизвестного автора XI-XII веков. Наиболее вероятным временем создания трагедии считали XII век. Это мнение защищал, в частности, К. Крумбахер (Krumbacher. Geschichte. S. 746-749 годы). Против датировки памятника XII века свидетельствует тот факт, что liber tragediae Григория Богослова упоминается в каталоге церковных книг восточносирийского писателя рубежа XIII и XIV веков. Авдишо бар Брихи (Assemani. BO. T. 3 (1). 1725. P. 23-24). Поскольку сирийские переводы сочинений Григория Богословаа относятся к V-VII векам, тогда как в последующие столетия переводы с греческого в восточно-сирийской традиции практически не делались (сирийская Церковь Востока полностью утратила контакт с Византией), трудно предположить, чтобы византийское произведение XI или XII веков было вскоре после появления на свет переведено на сирийский язык. К тому же ряд внутренних данных свидетельствует в пользу авторства Григория Богослова, в частности поэтический стиль, близкий стилю подлинных стихотворений святителя, также носивших подражательный характер. Автором трагедии мог быть только человек, в совершенстве владевший техникой античного стихосложения. Григорий Богослов, безусловно, принадлежал к их числу. Идея создания подобного рода произведения логически вытекала из стремления поставить античную поэзию на службу христианству: именно этим стремлением был движим Григорий Богослов, когда создавал поэтические произведения. При публикации трагедии в серии «Sources Chrétiennes» А. Тюилье подробно рассмотрел аргументы против авторства Григория Богослова и пришел к выводу об их несостоятельности (Tuilier. Introduction. P. 11-18). Ученый обратил особое внимание на догматическое содержание трагедии и высказал убеждение в том, что ее автором был писатель конца IV века, вовлеченный в борьбу против аполлинарианства, то есть Григорий Богослов. (Ibid. P. 71-72).
Письма
Святитель вел обширную переписку с епископами, священниками, монахами, риторами, софистами, военачальниками, государственными чиновниками, представителями провинциальной знати. Он был, по-видимому, первым византийским автором, опубликовавшим собрание собственных писем. В одном из писем к Никовулу, внуку святой Горгонии, Григорий Богослов, в частности, подчеркивает, что считает письма святителя Василия более важными, чем свои, а потому помещает их в начале собрания (Ep. 53). В другом послании, адресованном ему же, Григорий Богослов излагает основные правила эпистолярного стиля: письмо должно быть кратким (в меру необходимости), ясным (приближаясь к разговорному слогу), приятным (не без украшений, не лишенное сентенций, пословиц, изречений, острот, замысловатых выражений) (Ep. 51). Письма Григория Богослова вполне соответствуют этим требованиям: они отличаются ясностью и богатством мыслей, в них также соблюдается принцип лаконичности («в немногих слогах заключить многое» - Ep. 54). Лаконизм писем Григория Богослова отмечал уже святитель Василий Великий (Basil. Magn. Ep. 19).
Всего под именем Григория Богослова известно 249 писем, однако не все из них ему принадлежат. Письмо 241 принадлежит святителю Василию Великому (Basil. Magn. Ep. 196), 249 - святителю Григорию Нисскому (Greg. Nyss. Ep. 1). Письма 42, 57, 65, 66, 245-248 входят в корпус писем святитель Василия Великого (Basil. Magn. Ep. 47, 321, 166, 167, 367, 169-172). Письмо 243 в рукописях приписывается как Григорию Богослову, так и святителям Григорию Нисскому и Григорию Чудотворцу (в сирийском переводе с надписанием: «К Филагрию о единосущии»). На основании этого, а также в силу стилистического своеобразия высказываются сомнения о принадлежности его Григорию Богослову (смотреть: Сагарда Н.И. Святой Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский: Его жизнь, творения и богословие. Пг., 1916. СПб., 2006р . С. 341-386). Большая часть писем относится к последнему периоду жизни Григория Богослова и адресована его друзьям и родственникам, значительная их часть носит автобиографический характер; среди писем имеются также ходатайства, просьбы, жалобы. Только немногие письма являются догматическими по содержанию: к ним относятся 2 письма к пресвятому Кледонию (Ep. 101, 102), управлявшему некоторое время Назианзской Церковью, написанные в 382 году и направленные против апполлинарианства (в них Григорий Богослов раскрывает учение о воплощении Сына Божия). В письме к Нектарию, преемнику Григория Богослова на Константинопольской кафедре (Ep. 202), написанном, вероятно, в 387 году, Григорий Богослов обращает внимание Нектария на оживление этой ереси и указывает на необходимость как церковного отлучения разделяющих эти мнения, так и гражданских мер против свободного распространения ими своего учения (это письмо цитирует Созомен - Sozom. Hist. eccl. VI 27). 10 марта 388 года вышел эдикт императора святого Феодосия против еретиков (CTh. XVI 5. 4), в частности, запрещавший аполлинарианам проводить собрания и иметь епископов.
Сохранилось «Завещание» Григория Богослова, в котором он распорядился имуществом и дал освобождение части своих рабов (смотреть: Martroye. Le Testament).
Епископ Иларион (Алфеев)
Сочинения, приписываемые Григорию Богослову, но ему не принадлежащие
В ряде греческих рукописей, а также в славянских переводах (отчасти и в латинской традиции) сохранились небольшие сборники вопросоответов (часто имеющих апокрифический характер) библейско-исторического, богословского, литургического содержания в форме диалога - как правило, между Григорием Богословом и святителем Василием Великим (реже - другими лицами); в композиции вопросоответов могут использоваться фрагменты подлинных сочинений Григория Богослова и святителя Василия. Один из самых известных подобных сборников - так называемая Беседа трех святителей, которая, несмотря на то что была внесена в список отреченных книг, имела большое распространение на Руси и стала одним из основных источников таких древнерусских апокрифов, как, например, «Стих о голубиной книге». Многие из этих сборников были опубликованы в конце XIX - начале XX века русскими исследователями В.Н. Мочульским (Следы народной Библии в славянской и в древнерусской письменности. Од., 1893 год), Н.Ф. Красносельцевым (К вопросу о греческих источниках «Беседы Трех святителей». Од., 1890 год; Еще по вопросу об источниках «Беседы Трех святителей». Од., 1890 год; Addenda к изданию А. Васильева «Anecdota graeco-byzantina». Од., 1898 год. С. 20-75, 102-104), А.И. Алмазовым (Апокрифические молитвы, заклинания и заговоры: К истории византийской отреченной письменности. Од., 1901 год. С. 83-85) и другими; часть сборников остается неизданной (смотреть также: Sajdak J. Historia critica scholiastarum et commentatorum Gregorii Nazianzeni. Krakòw, 1914 год. P. 233-236). Обобщающего исследования, посвященного апокрифическим византийским вопросоответам Григория Богослова и других лиц, не существует; текстологические взаимоотношения различных сборников вопросоответов не выявлены (так, среди указанных в «Clavis Patrum Graecorum» (CPG, N 3064-3080) под разными номерами присутствуют различные редакции одних и тех же текстов и так далее).
Среди таких сборников вопросоответов встречается приписываемое Григорию Богослову толкование Божественной литургии (известное как «Святого Григория Богослова откровение о святой службе», «Сказание о литургии», «Слово святого Григория Богослова о Божественной литургии» и так далее). В нем не только даются символические объяснения частям храма, церковно- и священнослужителям, совершающим богослужение, литургической утвари, но и рассказывается об ангельском служении, которое, как созерцает тайновидец - составитель толкования, происходит параллельно с ходом Божественной литургии и составляет ее неотъемлемую часть, а также проводятся параллели с нек-рыми апокрифическими описаниями новозаветных событий. Это толкование имело распространение в греческой (CPG, N 3068 и (сокращенная версия) 3078) и особенно в славянской рукописной традиции, где оно было известно во многих редакциях и могло смешиваться с другими толкованиями (смотреть: Красносельцев Н.Ф. «Толковая служба» и другие сочинения, относящиеся к объяснению богослужения в древней Руси до XVIII века: Библиогр. обзор // ПС. 1878 год. Т. 2. С. 3-43; он же. О древних литургических толкованиях. Од., 1894 год; Яцимирский А.И. К истории апокрифов и легенд в южнославянской письменности // ИОРЯС. 1910. Т. 15. Кн. 1. С. 1-25 (здесь же - издание некоторых славянских редакций нелитургических вопросоответов Г. Б.: С. 25-39); Сове Б.И. История литургической науки в России / Публ. А.Г. Кравецкого // УЗ РПУ. 1996. № 2. С. 31-98, здесь: 35-46), приписываться как Григорию Богослову, так и святителям Иоанну Златоусту и Василию Великому (созерцателями литургии - очевидно, ее тайного содержания - называют трех святителей также некоторые собственно литургические славянские рукописи - например, Служебник 2-й половины - 3-й четверти XIV века (Смирнова Э.С. Русский лицевой Служебник XIV века в Нью-Йорке // Хризограф. М., 2005 год. Вып. 2. С. 54-73), хранящийся ныне в Публичной библиотеке Нью-Йорка (Slav. 1)) или не иметь атрибуции. Особое символическое и богословское значение имеет часто встречающееся в различных редакциях толкования созерцание Младенца Христа, являющегося в Святых Дарах при их освящении и раздробляемого для причащения верных (смотреть: Туницкий Н.Л. Древние сказания о чудесных явлениях Младенца Христа в Евхаристии // БВ. 1907. Т. 2. № 5. С. 201-229). Присутствие последней темы сближает толкование со сказанием преподобного Григория Декаполита о чудесном видении сарацина во время литургии (Муретов С.Д. Сказание святого Григория Декаполита о чудесном видении одного сарацина, его обращении в христианство, подвижнической жизни и мученической кончине // ЧОИДР. 1894. Март, Апрель, Май-Июнь. С. 1-28 (отд. паг.)), из-за чего толкование и сказание могут иногда смешиваться друг с другом (Яцимирский А.И. К истории апокрифов и легенд южнославянской письменности // ИОРЯС. 1910. Т. 15. Кн. 1. С. 1-25).
Литургия и анафоры
Под именем Григория Богослова известна литургия, полный текст которой сохранился на коптском (смотреть: Hammerschmidt E. Die koptische Gregoriosanaphora: Syrische und griechische Einflüsse auf eine ägyptische Liturgie. B., 1957. (BBA; 8)) и на греческом (в единственной греко-коптско-арабской рукописи; смотреть: Gerhards A. Die griechische Gregoriosanaphora: Ein Beitr. z. Geshichte d. Eucharistischen Hochgebets. Münster, 1984. (LQF; 65)) языках. Литургия написана в своеобразной манере: прозаические разделы чередуются с поэтическими. Молитвы литургии обращены ко Второму Лицу Пресв. Троицы; некоторые из них содержат откровенно монофизитские выражения. Эта литургия с большой степенью вероятности Григорию Богослову не принадлежит даже частично, что видно не только из богословского содержания, но и из филологических особенностей ее текста (смотреть: Engberding H. Die Kunstprosa des eucharistischen Hochgebets in der griechischen Gregoriosliturgie // Mullus: FS f. Th. Klauser / Hrsg. A. Stuiber. Münster, 1964. S. 100-111). Ее богослужебное использование исторически известно лишь в коптской Церкви, где эта литургия доныне совершается в дни Господских праздников (подробнее смотреть в статье Коптская Церковь, раздел «Богослужение»).
Иные анафоры с именем Григория Богослова (не совпадающие с коптско-греческими) известны в армянских (смотреть: Ferhat P. Denkmäler altarmenischer Meßliturgie. 1: Eine dem hl. Gregor von Nazianz zugeschriebene Liturgie // Oriens Chr. 1911. N. S. Bd. 1. S. 204-214) и сирийских (смотреть: Hausherr I. Anaphora Syriaca Gregorii Nazianzeni // Anaphorae Syriacae. R., 1940. T. 1. Fasc. 2. P. 98-147) традициях. 4 из 20 эфиопских анафор, надписанные именем «Григорий», в некоторых рукописях также атрибутируются Григорием Богословом (наряду со священномучеником Григорием Просветителем, святителем Григорием Нисским, епископом Григорием Александрийским).
В рукописях Григория Богослова также приписывается составление других текстов: литургического экзорцизма (Schneider S. Egzorcyzm przypisany siv Grzegozowi z Nazyanzu // Eos. Warsz., 1907 год. T. 13. S. 135-149; Delatte A. Anecdota Atheniensia. Liège, 1927 год. Vol. 1. P. 238-250), который, впрочем, может быть атрибутирован святителю Григорию Чудотворцу; энкомия Святому Кресту (CPG, N 355), известному в древнерусских и армянских традициях (в армянской традиции известно также слово на праздник Входа Господня в Иерусалим, смотреть: Coulie B. e. a. Un texte sur l'Entrée du Christ à Jérusalem attribué à Grégoire de Nazianze en arménien / Ed. B. Coulie // Studia Nazianzenica [Pt.] 1. Turnhout e. a., 2000. P. 185-199. (CCSG; 41 [CN; 8])); ряда других прозаических и поэтических произведений (CPG, N 3056-3057; 3060-3063; 3081-3095).
Переводы сочинений Григория Богослова на славянский язык до XIX века, рукописная и старопечатная традиция
В X веке сборник слов Григория Богослова дважды переводился в Болгарии. Первоначально был выполнен перевод сборника из 13 слов, не получивший заметного распространения в славянской традиции и представленный русским списком XI века (РНБ. Q. п. I. 16 - Коцева Е. Най-ранният кирилски препис от слова на Григорий Богослов // Българско средновековие: Българо-съветски сб. в чест на 70-годишнината на проф. И. Дуйчев. София, 1980. С. 240-252). Вскоре был сделан перевод сборника из 16 слов литургической коллекции, частично использовавший (с исправлениями) предыдущий (8 слов в этом сборнике были общими со сборником из 13 слов). Он представлен рядом русских списков XIV века (ГИМ. Син. 43; Чуд. 11; РГБ. Троиц. 8) и позднейшими; текст слов Григория Богослова сопровождается в них толкованиями митрополита Никиты Ираклийского, переведенными на Руси не позднее середины XII века. Вероятно, к X веку относится и перевод так называемого Алфавитаря - стихотворения с именем Григория Богослова в заглавии и азбучным акростихом (который в славянской версии частично сохранился) в русском списке XI века при Пандектах Антиоха Черноризца (ГИМ. Воскр. 30 перг., л. 309 об.- 310 - Карийский Н.М. Византийское стихотворение Алфавитарь в русском списке XI века // ИОРЯС. Л., 1930. Т. 3. С. 259-268). Ряд фрагментов поучений и посланий Григория Богослова, озаглавленных «(Григория) Богословца» и «Феологово», содержится в Изборнике, переведенном и составленном для болгарского царя Симеона (913-927), сохранившемся в русском списке 1073 года и большом числе позднейших копий (Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 года). София, 1991 год. Т. 1. С. 274, 291, 362-363, 406, 421, 428-429, 436-440, 546-548, 578, 597-600, 607, 615-616, 620-621, 635, 699-702). Не позднее 2-й четверти XIV века на Афоне или в Болгарии был осуществлен новый перевод сборника из 16 слов Григория Богослова, получивший широкое распространение во всех ветвях славянской рукописной традиции, с толкованиями и без них (книга «Богослов» упомянута в числе переводов известного афонского книжника этого времени старца Иоанна - Повесть о Варлааме и Иоасафе: Памятник древнерусской переводной литературы XI-XII веков / Подгот. текста, исслед., коммент.: И. Н. Лебедева. Л., 1985. С. 65). Старшие датированные списки перевода: сербские, без толкований - 1351 года (Сербия, монастырь Дечаны, № 92), с толкованиями - 1370 года (Новосибирск. ГПНТБ СО РАН. Тихомир. 7), переписан в Хиландаре известным книгописцем монахом Иовом; русские - с XV века. Кроме того, в значительном числе списков первые и последние 8 слов относятся к разным переводам (Буланин. 1984. С. 34-38; Буланин. 1991. С. 143-145; Бруни. 2004. С. 130-138, 150-181). Неизвестно, переводился ли (или редактировался) текст самих слов Григория Богослова при переводе толкований на них, отличных от толкований Никиты Ираклийского, представленных сербским фрагментом 3-й четверти XIV века (ГИМ. Син. 35. Л. 1-7 - Горский, Невоструев. Описание. Отд. 2. Ч. 1. С. 30-31; Буланин. 1991. С. 159-160). Во 2-й четверти XVI века сборник из 16 слов Григория Богослова (с толкованиями) был включен в состав Великих Миней Четьих как единый комплекс под 25 января, а слова на Рождество Христово и на Богоявление помещены дополнительно под соответствующими числами. В XVI-XVII века сборник из 16 слов Григория Богослова («Книга Богослов», «Книга Григорий Богослов») был обязательной принадлежностью (иногда в несколько экземплярах) любой сколь-либо значительной библиотеки Московской Руси (Ундольский В. Опись книгам, в степенных монастырях находившимся, составленная в XVII веке // ЧОИДР. 1848. Кн. 6. С. 13-16, 19, 23, 26, 29, 30, 33, 37, 39; Буланин. 1991. С. 139).
Ряд поучений Григория Богослова (в том числе на Пятидесятницу) был издан Печатным двором в Москве в составе сборника слов отцов Церкви (так называемый Сборник из 71 слова). В 1660 году в составе Анфологиона там же вышли в свет «Четверостишия» Григория Богослова, переведенные иеромонахом Арсением Греком и снабженные им пересказом («толкованиями» - Киселев Н.П. О московском книгопечатании XVII века // Книга: Исслед. и мат-лы. М., 1960. Сб. 2. С. 153; СККДР. XVII в. Вып. 3. Ч. 1. С. 107). В 1665 году слова Григория Богослова были изданы там же в составе сборника переводов Епифания (Славинецкого). Не позднее 1680 года Евфимий Чудовский перевел сборник из 16 слов Григория Богослова с толкованиями Никиты Ираклийского (ГИМ. Син. 48, 49; СККДР. XVII в. Ч. 1. С. 290), 46 слов Григория Богослова, 2 послания и толкования на книгу Екклесиаста были переведены архиепископом Иринеем (Клементьевским) и изданы в 1798 году в 2 томе Московской Синодальной типографией.
Слова Григория Богослова (в первую очередь на Богоявление и Рождество Христово) с древнейших времен использовались славянскими авторами, прежде всего для обличения язычества. Заметное влияние слова Григория Богослова на Богоявление наблюдается уже в одной из древнейших славянских гомилий на тот же праздник, предположительно атрибутируемой в научной литературе святому Клименту Охридскому (Климент Охридски. Събрани съчинения. София, 1977. Т. 2. С. 223-248; Станчев К., Попов Г. Климент Охридски. Живот и творчество. София, 1988. С. 74. № 12). Сходная ситуация отмечается в отношении столь же древнего анонимного слова на Рождество Христово, представленного сербскими списками XIV века (Климент Охридски. Т. 2. С. 193-222). Вероятно, в конце XI века на Руси на основе слова Григория Богослова на Богоявление было составлено «Слово святаго Григорья, изобретено в толцех о том, како первое погани суще языци кланялися идолом и требы им клали» (Гальковский Н.М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. М., 1913, 2000р. Т. 2. С. 17-35; Аничков Е.В. Язычество и Древняя Русь. СПб., 1914. С. 384-386). Не позднее 1-й четверти XV века в Сербии то же слово Григория Богослова (с особой редакцией толкований, представленной в отрывках ГИМ. Син. 35) легло в основу «Сказания о скверных бозех елинскыих», входящего в состав ряда списков Требника с Номоканоном (Тихонравов Н.С. Слова и поучения, направленные против языческих верований и обрядов // Летописи русской литературы и древности, издаваемые Н. Тихонравовым. М., 1862. Т. 4. С. 84-85; Буланин. 1991. С. 159-161). Около 1548 года преподобный Максим Грек написал мифологический комментарий («Послание об античных мифах» и «Сказание отчасти недоуменных некиих речений в слове Григория Богослова») к 9-му и 10-му словам Григория Богослова (Буланин. 1984. С. 40-51). Позднее слово на Богоявление использовал царь Иоанн Васильевич Грозный в 1-м послании к Курбскому (Буланин. 1991. С. 163-165). На протяжении XVI века сборник из 16 слов Григория Богослова неоднократно служил источником русских Азбуковников (СККДР. Вып. 2. Ч. 1. С. 12; Буланин. 1991. С. 167-169).
С именем Григория Богослова в славянской рукописной традиции известен также ряд сборников вопросоответов (обычно в сочетании с именами святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста): «Въпроси и ответи Григория Богословца и Василия» в составе Изборника (Симеонов сборник. С. 678-680), «Устроение словес Василия и Григория Феолога, Иоанна» («Вопросы и ответы святого Григория и Василия, Иоанна Богословца»), сохранившееся в многочисленных списках начиная с XII века (древнейший - отрывок древнерусского извода, Синай, монастырь великомученицы Екатерины, Слав. 39/О. Л. 46 - Taube M. An Early Twelfth-Century Kievan Fragment of the «Beseda trekh sviatytelei» // HUS. 1988/1989. Vol. 12/13. P. 346-359); о памятнике и его рукописной традиции смотреть: Милтенова А. «Устроение на (светите) слова» в старобългарската литература // Старобългарска литература. София, 2001. Кн. 32. С. 99-110. К ним примыкают апокрифическая «Беседа трех святителей» (СККДР. Вып. 2. Ч. 1. С. 89-91), а также толкование Божественной литургии, содержащееся во многих рукописях - например, в «Златой цепи» конца XIV века (Златая цепь: Тексты, исслед.: Жития и поучения св. отцев. М., 2003. С. 56-58). Имя Григория Богослова помимо «Беседы...» может также встречаться и в заголовках других апокрифов - например, ему приписывается слово (или сказание) об обретении Честного и Животворящего Креста Господня и 2 крестов разбойничьих, послужившее одним из источников апокрифического цикла сказаний о крестном древе попа Иеремии (Соколов М.И. Материалы и заметки по старинной славянской литературе. М., 1888. Вып. 1. С. 143-145). В славянской традиции Григорию Богослову могут ошибочно атрибутироваться также сочинения соименных ему святителей Григория Нисского и папы Григория I Великого (Двоеслова) (в последнем случае оказывает воздействие и близость звучания прозвищ: «Диалог» и «Феолог»).
Учение
Богатство догматического материала, отточенность богословских формулировок сделали Григория Богослова одним из главных выразителей учения православной Церкви. Святитель считал служение слову главным делом своей жизни. Однако еще до окончания Афинской академии он решил посвятить себя не слову как искусству, но слову о Боге, сделаться не «любословом» (φιλόλογος), но «любомудром» (φιλόσοφος), не ритором, но богословом. Термины «любомудрие» («философия») и «богословие» нередко выступают у Григория Богослова в качестве синонимов (Or. 27). Бог по Своей сущности непостижим для человеческого разума и, следовательно, не может быть выражен, описан или изъяснен никаким человеческим словом: истинное благочестие, по словам Григория Богослова, заключается «не в том, чтобы часто говорить о Боге, но чтобы больше молчать» (Or. 3. 7). Тем не менее Григорий Богослов сознавал, что апофатический метод богословия должен дополняться катафатическим: «Любопытствующий о природе Сущего не остановится на том, что́ Он не есть, но к тому, что́ Он не есть, добавит и то, что́ Он есть, ведь легче что-то одно постичь, чем все по отдельности отрицать; добавит, чтобы через исключение того, что́ не есть Бог, и утверждение того, что́ Он есть, сделать то, о чем мыслит, более доступным пониманию» (Or. 28. 9). Исходным пунктом теории богословствования, излагаемой Григорием Богословом в проповедях и стихотворениях, является то, что Бог открывается человеку как воплощенное Слово, поэтому жертвой Богу со стороны человека должно стать прежде всего слово, которое «священнее и чище всякой бессловесной жертвы»; благодарение Богу должно воздаваться также «посредством слова»; прежде всяких других приношений следует почтить Бога словами - «плодоношением праведным и общим для всех причастившихся благодати» (Or. 4. 3, 4, 6).
Согласно Григорию Богослову, богословом может быть не всякий, но только тот, кто ведет созерцательный образ жизни и очищает себя для Бога; участвовать в богословских дискуссиях могут не все, но лишь те, кто занимаются этим «усердно»; наконец, не всякая богословская тема может обсуждаться вслух. «Я не говорю, что не нужно всегда вспоминать о Боге... Вспоминать о Боге нужно чаще, чем дышать! ...Запрещаю не вспоминать о Боге непрестанно, но богословствовать непрерывно; притом запрещаю не само богословие как что-то неблагочестивое, но богословие не вовремя; запрещаю не учительство, но несоблюдение меры» (Or. 27. 4). Христианская дисциплина аркана (тайное учение) вместе с ее античным предшественником - характерным для греческий мистерий требованием неразглашения смысла таинств непосвященным - получает новое преломление у Григория Богослова: нельзя богословствовать без благоговения и недопустимо, чтобы догматы обсуждались с каким угодно слушателем - «чуждым и нашим, враждебным или дружественным, благонамеренным и злонамеренным» (Or. 27. 5). Богословие есть «мистерия-таинство»; превращаемое в предмет публичных дебатов, оно десакрализуется, утрачивает свою мистическую сущность (Ibidem). Богословие не есть ни наука, ни искусство, ни профессия: оно есть мистическое восхождение к Богу. Ни знакомство с опытом других людей, ни священный сан не дают человеку право богословствовать. Те христиане, которые очищают себя жизнью по заповедям Божиим, могут вслушиваться в проповедь богослова; неочищенные не должны принимать участие в богословской дискусии; тем же, которые участвуют в дискуссии с целью уловить богослова и обвинить его в догматической неблагонадежности, не место в среде богословов, так как богословие не может быть движимо злобой (Or. 28. 2). О духовном очищении как необходимом условии богословствования Григорий Богослов говорит в 32-м слове, основная идея которого заключена в характерном афоризме: «Великое дело - говорить о Боге, но еще больше - очищать себя для Бога» (Or. 32. 12). Для богословствования необходимы не столько усилия разума, внешняя образованность или начитанность, сколько смирение и скромность. По мнению Григория Богослова, смиренномудр тот, «кто умеренно говорит о Боге, кто знает, о чем сказать и о чем промолчать, в чем признать свое неведение, уступив слово имеющему на него право; кто признает, что другой может быть более духовным и более преуспевшим в созерцании» (Ibid. 19). В молчаливом и смиренном предстоянии живому Богу, а не в спорах на догматические темы рождается подлинное богословие.
Учение о Боге
I. Богопознание. Историческим контекстом учения Григория Богослова о богопознании являлась полемика с евномианством. Согласно Евномию, епископа Кизика, сущность Божия постижима для человека: «О сущности Своей Бог знает ничуть не больше, чем мы; нельзя сказать, что она ведома Ему более, а нам менее» (ap. Socr. Schol. Hist. eccl. IV 7). Такое умонастроение, представлявшее собой рационализацию христианства, было полной противоположностью учению Григория Богослова, воспринимавшего христианство прежде всего как таинство, в котором богопознание есть путь за пределы постижимого человеческим разумом, а не движение лишь в пределах дискурсивного мышления. Разум может привести человека к признанию существования Бога, но никоим образом не может проникнуть в сущность Божию: «Это естество невместимое и непостижимое. Непостижимым же называю не то, что оно существует, но то, каково оно есть ( ἥτις ἐστίν) » (Or. 28. 5). Согласно Евномию, атеизм начинается с утверждения о непостижимости Бога; согласно Григорию Богослову, напротив, утверждение о том, что Бог постижим в Своей сущности, есть верх безбожия и богохульства. Христианский богослов смиренно признает, что имеет дело с тайной, превышающей возможности разумного постижения, вопреки рационалисту, претендующему на то, что знает Бога не хуже, чем Он Сам знает Себя.
Пытаясь показать неопределимость сущности Божией, Григорий Богослов начинает с целого ряда апофатических высказываний, в которых отрицается телесная природа Божества: Бог не есть тело, ибо Он бесконечен, беспределен, неосязаем, невидим; в Нем нет разделения, борьбы, сложности; Он все Собой пронизывает и все наполняет, ни с чем не смешиваясь. Бог не есть какое-нибудь «нематериальное» тело, движущееся по кругу; Он не есть ангельское тело (Ibid. 7-8). Бог бестелесен, однако термин «бестелесное» не объемлет сущность Божию, так же как слова «нерожденное», «безначальное», «неизменное», «нетленное» и все остальное, что говорится о Боге и Его свойствах (Ibid. 9). Эти и подобные апофатические выражения лишь указывают на то, чем Бог не является, но не могут объяснить, что́ есть Бог в Своей сущности. Нигде или где-либо существует Бог? Если сказать, что «нигде», могут спросить, существует ли Он вообще. Если же «где-либо», то, значит, Бог ограничен местом, тогда как Он - вне всяких категорий места. Где существовал Он прежде сотворения мира? На этот вопрос также нельзя ответить, ибо если Божество постигнуто разумом, Оно уже становится ограниченным (Ibid. 10). «Божество непостижимо для человеческой мысли, и невозможно представить Его целиком таким, какое Оно есть» (Ibid. 11). Бог остается непостижимым не по скупости, «ибо скупость далека от божественной Природы, бесстрастной, единой благой и господственной, особенно скупость по отношению к тварям, которые более всего драгоценны для Нее, ибо что для Слова может быть выше словесных созданий» (Ibidem). Причина непостижимости божественной сущности заключается в ее беспредельности: «Божество беспредельно (ἄπειρον) и неудобосозерцаемо; и в нем совершенно постижимо это одно - беспредельность (ἀπειρία)» (Or. 38. 7). Кроме того, между человеком и Богом стоит «телесная тьма», как некогда между Израилем и Египтом (ср.: Исх 10. 22). О телесности как преграде между человеком и Богом иносказательно говорится в Псалтири: «И мрак сделал покровом Своим» (Пс 17. 12); прозреть сквозь этот мрак способны немногие (Or. 28. 12). Пока человек находится в материальном теле, он не может постичь божественную сущность, так как материальность остается преградой между ним и Богом. Путь богопознания сравнивается с бегом за собственной тенью, которую невозможно обогнать. Сущность Божества всегда ускользает от человеческого языка и разума, как бы они ни пытались описать или представить Бога. Вращаясь в замкнутом круге телесности, невозможно достигнуть подлинного богопознания. Вместе с тем богопознание в этой жизни возможно не иначе как через посредство чего-либо телесного. Следовательно, полнота богопознания невозможна для человека, облеченного в материальное тело (Ibidem).
Григорий Богослов сравнивает также путь богопознания с восхождением на гору, в котором выделяются 3 этапа: отрешение от материи и материальных предметов; обращение к самому себе, то есть к душе; воспарение над собой, «к сродному», к Богу как Первообразу (Or. 28. 2-3; 38. 7). Сравнивает Григорий Богослов путь богопознания и со схождением в бездонные глубины: чем ниже спускается разум, тем больше сгущается вокруг него тьма; при этом он ничуть не приближается к цели, так как дна не существует. Погружение в бездны Божества не имеет конца по причине ограниченности человеческого разума и слова, которые не в силах проникнуть в тайны сущности Божией и судеб Божиих (Or. 28. 21). Путь богопознания заканчивается удивлением и изумлением перед чудом - в этом состоянии всякое дискурсивное мышление прекращается, слово умолкает. Это состояние не есть познание сущности Божией - оно есть умолкание всякого человеческого знания перед лицом Божественной беспредельности и бездонности. Познание сущности Бога станет возможным в состоянии обожения, когда ум человека (образ Божий) соединится с тем, что ему родственно, то есть с Божеством (Первообразом) (Or. 28. 17). Григорий Богослов, таким образом, оставляет надежду на то, что в будущем веке, когда человек освободится от материальности и телесности, ему станет доступно более полное познание Бога. Разумеется, и тогда человек не будет знать Бога в такой степени, в какой Бог знает Сам Себя: нет полного тождества между самопознанием Бога и богопознанием человека. Но для человека откроется возможность познать Бога так, как Бог знает человека (Ibidem; Or. 38. 7),- эта мысль апостола Павла (1 Кор 13. 12) указывает на некую полноту и непосредственность познания Бога в будущем веке. Когда отпадет преграда грубой телесности, станет возможной встреча человека с Богом лицом к лицу. В настоящей жизни возможно лишь приближение к этой встрече, подобное восхождению Моисея на Синай, где во мраке и облаке узнает он лишь «задняя Божия» (θεοῦ τὰ ὀπίσθια, то есть Его величие (μεγαλειότης, μεγαλοπρέπεια), явленное и видимое в тварях), но не видит «первого и чистого естества», или божественной сущности (Or. 28. 3, 17).
II. Имена Божии. Согласно Григорию Богослову, природа Божества превосходит всякое имя: «Божество неименуемо... Ибо как никто никогда не вдыхал в себя весь воздух, так и сущность Божию никоим образом ни ум не мог вместить, ни слово объять» (Or. 30. 17). Он разделяет имена Божии на 3 категории: относящиеся к божественной сущности; указывающие на власть Бога над миром; относящиеся к домостроительству Божию. К 1-й категории Григорий Богослов причисляет имена ὁ ῎Ων (Сущий), Θεός (Бог) и Κύριος (Господь). Имя Θεός, по замечанию Григория Богослова, «искусные в этимологии производят от глаголов θέειν (бежать) и αἴθειν (жечь) по причине постоянного движения и силе истреблять недобрые расположения». Это имя «относительное, а не абсолютное», так же как и имя Κύριος. Имя ὁ ῎Ων не принадлежит никому, кроме Бога, и прямо указывает на Его сущность, а потому и является наиболее подходящим Богу (Ibid. 18), «ибо Он сосредоточил в Себе всецелое бытие (ὅλον τὸ εἶναι), не начинавшееся и не прекращающееся, как бы некое море сущности (οἷόν τι πέλαγος οὐσίας), беспредельное и безграничное, превосходящее всякую мысль о времени и природе» (Or. 28. 7). Поэтому Григорий Богослов называет Бога «Первой Сущностью» (Or. 28. 31; о платонических корнях этого термина смотреть: Moreschini. 1974. P. 1385; Pinault. Le platonisme. P. 55, 67, 79-80); впрочем, говорит он, кому-то может показаться более достойным Бога «поставить Его и выше понятия сущности (οὐσία) или в Нем заключить все бытие (τὸ εἶναι), ибо в Нем - источник бытия всего остального» (Or. 6. 12, 18-20; ср.: Orig. In Ioan. XIX 1 // PG. 14. Col. 536). Говоря о том, что Бог выше понятия «сущности», Григорий Богослов следует Платону (Resp. 509b) и Плотину (Enn. V 3. 13-14, 17; VI 8. 21). Ко 2-й категории относятся имена «Вседержитель», «Царь славы», «Царь веков», «Царь сил», «Царь возлюбленного», «Царь царствующих», «Господь Саваоф», «Господь сил», «Господь господствующих» (ср.: Исх 15. 3; Пс 23. 19; 1 Тим 1. 17; Пс 57. 13; 1 Тим 6. 15; Ис 1. 19; Рим 9. 29; Втор 10. 17; Ис 3. 15; Ам 6. 8). К 3-й категории - имена «Бог спасения», «Бог отмщения», «Бог мира», «Бог правды», «Бог Авраама, Исаака и Иакова» (ср.: Пс 67. 21; 93. 1; Рим 15. 33; Пс 4. 2; Исх 3. 6) и др., связанные с действиями Бога в истории израильского народа. К этой же категории относятся имена Божии «после воплощения», то есть имена Христа (Or. 30. 19). Преимущественно перед другими именами Бог называется Миром и Любовью (Or. 6. 12), причем Сам Бог более всего радуется, когда Его называют Любовью (Or. 22. 4).
Имена Божии характеризуют свойства Бога. Однако эти имена настолько относительны и неполны, что ни каждое из них в отдельности, ни все они в совокупности не дают возможности представить, что́ есть Бог Сам по Себе (τὰ κατ᾿ αὐτὸν), но только то, что «окрест Него» (τὰ περὶ αὐτὸν) (Or. 30. 17; 38. 7). Если собрать все имена Божии и все образы, с которыми Бог связан в Священном Писании, и слепить их в одно целое, получится некая искусственная умозрительная конструкция - скорее идол, чем Бог. Имена Бога, заимствованные из видимой вселенной, созерцание действий Божиих в мире, наблюдение за премудрым устройством тварей - все это может привести человека к поклонению Творцу мира. Иногда тем не менее человек обожествлял что-либо из видимого и поклонялся твари вместо Творца, из ошибочного богословия рождалось идолопоклонство (Or. 28. 13). Всякое упрощенное, частичное, односторонне катафатическое представление о Боге сродни идолопоклонству: оно облекает Бога в категории человеческой мысли. Те антропоморфические представления о Боге, которые содержатся в Священном Писании, должны пониматься как иносказание: сквозь «букву» Писания следует проникать в его «внутреннее содержание» (Or. 31. 21). Есть вещи, которые названы в Священном Писании, однако не существуют в действительности,- к этой категории относятся библейские антропоморфизмы. В Писании о Боге говорится, что Он спит, пробуждается, гневается, ходит и престолом имеет херувимов (ср.: Пс 43. 24; Дан 9. 14; Втор 11. 17; Ис 37. 16). «Здесь представлено то, чего в действительности не существует. Ибо мы наименовали Божественное именами, взятыми из нашей реальности». Если Бог по каким-то Ему известным причинам не проявляет видимых знаков заботы о нас, нам кажется, что Он спит; если вдруг оказывает благодеяние - пробуждается. Он наказывает, а мы думаем, что гневается; Он действует то здесь, то там, а нам кажется - ходит. Бог быстро движется - мы называем это полетом (ср.: Пс 17. 11); Он взирает на нас - называем «лицом» (ср.: Пс 33. 17); Он дает нам что-либо - именуем «рукой» (ср.: Пс 10. 12); «так и всякая другая сила и другое действие Божии изображаются у нас чем-либо телесным» (Or. 31. 22). Учение о непостижимости и неименуемости Бога содержится не только в догматико-полемических словах Григория Богослова, но и в его мистической поэзии. В стихотворных молитвах Григорий Богослов обращается к Богу как носителю всех имен и вместе с тем Тому, Кто превыше всякого имени, Которого весь мир прославляет словом и молчанием (Carm. dogm. 26 // PG. 37. Col. 507-508, аутентичность этого гимна была поставлена под сомнение М. Зихере, однако Ж. Бернарди успешно опроверг выводы немецкого ученого - Sichere. Ein neoplatonischer Hymnus; Bernardi. 1995. P. 304-306). Идея Григория Богослова о «безымянном и носителе всякого имени» стала отправным пунктом трактата «О Божественных именах» (Areop. DN. I 6), в котором учение об именах Божиих было окончательно систематизировано. Однако именно Григорий Богослов был первым, кто на восточно-христианской почве создал стройное учение об именах Того, Кто находится «по ту сторону» всякого имени и определения.
Учение о Святой Троице
I. Раскрытие догмата в истории. Говоря во 2-м слове о постепенном раскрытии тайны Троицы, Григорий Богослов указывает на арианство, савеллианство и «чрезмерное православие» как на 3 основных догматических заблуждения в учении о Троице. «Православными сверх меры» он, очевидно, считает тех своих современников, которые в полемике с монархианством или подчеркивали различие ипостасей в ущерб единству Троицы, или считали Сына «безначальным», подобно Отцу. Савеллианство Григорий Богослов называет «атеизмом», арианство - «иудейством», а заблуждение «чрезмерно православных» - «многобожием». Он настаивает на том, что как принцип единства Божия по сущности, так и принцип троичности Ипостасей должны быть соблюдены (Or. 2. 37-38). В 22-м слове Григорий Богослов приводит более полный список ересей, противопоставляя им один «орос благочестия» - «поклоняться Отцу, Сыну и Святому Духу, единому в Трех Божеству и Силе, не предпочитая Одного и не принижая Другого... не рассекая единого величия новшеством имен» (Or. 22. 12).
Настаивая на единстве Троицы при различии Лиц, Григорий Богослов был убежден, что учение, которое он исповедует в отличие от ересей, с которыми полемизирует, не является догматическим новшеством: оно лишь продолжение и развитие того, о чем говорили православные отцы первых веков христианства. Учение о Троице, в понимании Григория Богослова, есть часть Предания, которое дошло до него от ранних отцов и в котором он был воспитан собственными родителями (Or. 11. 6). Миссия христианского богослова заключается не во введении догматических новшеств, но в сохранении «евангельской веры» и «залога», полученного от отцов Церкви (Or. 6. 22).
Размышляя о том, как тайна Святой Троицы раскрывалась в истории, Григорий Богослов выдвигает идею постепенного развития церковного богословия, к-рое происходит благодаря «прибавлениям», то есть постепенному уточнению и обогащению богословского языка. Уже в ветхозаветные времена Бог открывался человечеству, однако ключевым моментом откровения было единство Божества, которое утверждалось в противовес языческому многобожию; поэтому объектом откровения был Бог Отец. НЗ открыл человечеству Сына, а «нынешний» период является эрой действия Святого Духа, когда догматические истины получают окончательное выражение. Григорий Богослов, таким образом, не считает, что новозаветное откровение исчерпало все богословские проблемы и что, следовательно, ответ на любой вопрос можно найти в Священном Писании НЗ. Напротив, НЗ лишь один из этапов «восхождения» христианского богословия «от славы в славу», которое, как он убежден, продолжается в его времена и будет продолжаться до скончания века (Or. 31. 25-28). При этом Григорий Богослов говорит не о введении новых догматов, но о постепенном все более полном раскрытии тех догматов, которые в виде «намека» (ὑπόδειξις) содержатся в Священном Писании. Григорий Богослов выразил здесь традиционные для восточно-христианского богословия идею Священного Предания Церкви как главного источника веры. В Священном Писании, по мнению Григория Богослова, догматические истины уже заложены - надо только уметь их распознавать. Григорий Богослов предлагает «ретроспективный» метод чтения Писания, который заключается в том, чтобы рассматривать тексты Писания исходя из последующего Предания Церкви и идентифицировать в них те догматы, которые более полно сформулированы в позднейшую эпоху. При этом о Святой Троице свидетельствуют не только новозаветные, но и ветхозаветные тексты (Or. 34. 13-14).
II. Троичное богословие. Учение Григория Богослова о Святой Троице, так же как и аналогичные учения святителей Василия Великого и Григория Нисского, складывалось в ходе полемики с поздним арианством (евномианством). Оно нашло свое полное и законченное выражение в «Словах о богословии». Однако изложение догмата о Святой Троице содержится и в других словах Григория Богослова, в частности в 20-м слове, произнесенном незадолго до «Слов о богословии». Оно тематически предваряет последние и вместе с 23-м словом, «О мире», является своего рода введением в их проблематику. Православное учение о Троице представлено Григорию Богослову как некая «золотая середина» между 2 крайностями - «недугом» Савеллия, сливающего три Лица в одно, и «безумием» Ария, делящего единое Божество на три разнородные сущности, чуждые одна другой и неравные (Or. 20. 5-6). В Троице Отцу принадлежит свойство быть безначальным (ἄπειρος) и Началом (ἀρχή) Сына и Духа, равных и единосущных Ему (Ibid. 6). Вера в единого Бога сохранится, по мнению Григория Богослова, в том случае, если мы будем относить Сына и Духа к одной Причине (то есть к Отцу); вера в три Ипостаси - если «не станем измышлять какого-либо смешения, разделения или слияния»; исповедание личных свойств сохранится в том случае, когда мы будем считать Отца безначальным по отношению к двум другим Ипостасям, а Сына, хотя и не безначальным, однако же началом всего (Ibid. 7). Утверждая, что Сын имеет начало, Григорий Богослов не считал безначальность Отца синонимом Его божества. Безначальность, по учению Григория Богослова, есть личное свойство Отца, отличающее Его от Сына; однако и Сын, и Отец обладают полнотой божества. Сын не безначален по отношению к Отцу, однако безначален по отношению к времени (Ibidem; Or. 29. 3; 39. 11). Рождение Сына совечно бытию Отца, между Отцом и Сыном нет промежутка, последовательности и неравенства (Or. 20. 10).
В «Словах о богословии» содержится подробное и последовательное опровержение арианских постулатов. Отправным пунктом для Григория Богослова является идея «монархии» - единоначалия как основной характеристики Божества. Попутно отвергнув идею «анархии» - безначалия, то есть отрицания Промысла Божия, управляющего миром, и идею «полиархии» - многоначалия, то есть многобожия, Григорий Богослов излагает свое понимание единоначалия: «Мы же почитаем монархию, но не ту монархию, которая ограничена одним Лицом - ведь и одно, если в раздоре с самим собой, становится множественным,- но то, которое составляет равночестность природы, единодушие воли, тождество движения и возвращение к Единому Тех, что от Единого, что невозможно для тварной природы, так что Они, хотя и различаются по числу, не разделяются по сущности. Поэтому изначальная монада, движимая к диаде, остановилась на триаде (смотреть толкование преподобного Максима Исповедника на этот текст в «Амбигвах» - PG. 91. Col. 1036). И это у нас - Отец, Сын и Святой Дух» (Or. 29. 2). Идея расширения монады в диаду и диады в триаду призвана подчеркнуть изначальное единство Божества. Подобная идея встречалась в III веке у святителя Дионисия Великого: «Мы расширяем Божественное единство в триаду и, наоборот, сводим триаду, не уменьшая ее, в единство» (ap. Athanas. Alex. De sent. Dionys. 17. 2). У Григория Богослова идея расширения монады, вероятно, связана с косвенным влиянием триадологии Плотина (Moreschini. 1974. P. 1390-1391), по учению которого начальным принципом всего является Единое, которое порождает Ум и Мировую Душу. Григорий Богослов, описывая Троицу, так же говорит о Едином, из которого происходят и к которому возвращаются «Те, что от Единого». Однако плотиновская Триада в отличие от христианской Троицы является иерархической по структуре: Единое «изливается» в Ум и Ум «изливается» в Мировую Душу. Согласно Григорию Богослову, традиционный для христианства язык «рождения» и «исхождения» больше подходит для выражения триадологического догмата, чем неоплатоническая терминология «излияния» - эманации, подразумевающей какое-то непроизвольное, неудержимое движение (Or. 29. 2). Опровергая арианскую формулу «было, когда не было (Сына)», Григорий Богослов подчеркивает, что тайна рождения и исхождения находится за пределами временны́х категорий: нет временно́го разрыва между безначальностью Отца и рождением Сына, между вечностью Отца и исхождением Духа. И рождение, и исхождение совечны бытию Отца. На вопрос: «Как же Они не собезначальны (Отцу), если совечны (Ему)?» - Григорий Богослов отвечает: Они не безначальны по отношению к Отцу как единому Началу, однако безначальны по отношению к времени (Ibid. 3). Понятие «начала», подчеркивает Григорий Богослов, не является временны́м применительно к Божеству. На вопрос арианина: «Каким образом рождение бесстрастно?» - Григорий Богослов отвечает: «Потому что оно бестелесно» (Ibid. 4). Страсть характерна для человеческого рождения, в отношении бестелесного Божества человеческие понятия неуместны. И вопрос, и ответ отражают традиционные для христианства тему неподвластности Бога страданию. Дальнейшие вопросы арианина связаны с одной и той же тенденцией - применять человеческие понятия к Божественной реальности: какой отец не начинал быть отцом? слова «родил» и «родился» разве вводят что-то иное, а не начало рождения? восхотев ли, Отец родил Сына или против воли? каким образом рожден Сын? родил ли Отец уже существовавшего Сына или еще не существовавшего? Тот Отец не начинал быть Отцом, Который не имеет начала Своего бытия,- отвечал Григорий Богослов. Бытие Отца безначально, рождение Сына тоже безначально. Понятие «хотение» в собственном смысле неприменимо к рождению Отцом Сына, так же как и понятие «страсть»: «В Боге хотение рождать, возможно, есть уже само рождение, а не что-либо посредствующее, если только вообще допустим это, а (не скажем, что) хотение выше рождения» (Ibid. 6). Рождение Сына непостижимо, и философствовать о нем небезопасно. Вопрос о «существовавшем» или «не существовавшем» Сыне лишен смысла: рождение Сына - «от начала», оно совечно Его собственному бытию и бытию Отца (Ibid. 5-9). Нерожденность, согласно Григорию Богослову, не относится к сущности Божией. Поэтому, хотя нерожденность не тождественна рожденности, Отец и Сын тождественны по сущности, так как и Отец и Сын являются Богом (Ibid. 10). «Отец есть имя Божие или по сущности или по действию»,- говорит арианин. При этом предполагается, что если «по сущности», то Отец иносущен Сыну, а если «по действию», то Сын есть плод творческого действия Отца, следовательно, Он - тварь. «Отец»,- отвечает Григорий Богослов,- не есть имя Божие ни по сущности, ни по действию, но оно указывает на отношение (σχέσις, τὸ πῶς ἔχει) между Отцом и Сыном, поскольку имя «Отец» предполагает наличие Сына, а «Сын» - Отца (Ibid. 16).
«Слова о богословии» содержат стройную и законченную тринитарную доктрину, последовательное опровержение основных постулатов арианства; они, кроме того, проясняют традиционную троичную терминологию. Все эти качества способствовали тому, что учение великих каппадокийцев о Святой Троице, одним из главных выразителей которого в начале 80-х годов IV века был Григорий Богослов, восторжествовало на II Вселенском Соборе. Впрочем, и после Собора Григорию Богослову приходилось неоднократно возвращаться к изложению учения о Святой Троице и дискуссиям по поводу использования тех или иных терминов. Праздничные слова Григория Богослова, относящиеся ко времени его пребывания в Назианзе после удаления из Константинополя, содержат длинные триадологические отступления, в которых нельзя не увидеть продолжение спора, начатого в «Словах о богословии» (ср.: Or. 39. 12).
III. Учение о Святом Духе. Православная пневматология является основной темой 31-го слова, продолжающего триадологию 29-го и 30-го слов. Вопрос о Святом Духе оставался открытым на протяжении всего IV века «Никогда ничего не предпочитали мы и не могли предпочесть никейской вере...- писал Григорий Богослов,- но с Божией (помощью) держимся и будем держаться этой веры, проясняя только неясно сказанное там о Святом Духе, ибо тогда еще не возникал этот вопрос» (Ep. 102). В речи, произнесенной вскоре после архиерейской хиротонии, Григорий Богослов говорит о своей преданности Св. Духу и о том, что настало время, когда вера в божество Св. Духа должна выйти из катакомб и сделаться достоянием всей «вселенной» (Or. 12. 6). В систематическом виде учение о божестве Святого Духа было впервые изложено Григорием Богословом в «Словах о богословии». Он указывает на евномиан, пневматомахов и православных как на 3 основные противоборствующие партии, причем отмечает различие позиций и внутри православной партии. К этим партиям Григорий Богослов добавляет также «наимудрейших измерителей Божества», которые, по его словам, хотя и исповедуют «трех умосозерцаемых» согласно с православными, однако считают Одного «неограниченным (ἀόριστον) по сущности и силе», Другого неограниченным «по силе, но не по сущности», а Третьего - «ограниченным (περίγραπτον) и в том, и в другом». В этом учении «измерители Божества» подражают тем, которые «называют Их Создателем (δημιουργόν), Сотрудником (συνεργόν) и Служителем (λειτουργόν), и считают, что порядок имен и благодати означает субординацию (ἀκολουθίαν)» между Лицами Святой Троицы (Or. 31. 5; смотреть: Daniélou J. Akolouthia et exégèse chez Grégoire de Nysse // RSR. 1953. Vol. 27. P. 236).
Пользуясь терминами, характерными для античной диалектики, Григорий Богослов утверждает, что Святой Дух может быть либо субстанцией-сущностью (οὐσία), либо акциденцией-принадлежностью (συμβεβηκός). Если Дух есть «принадлежность», то Его можно считать и «энергией» Бога. Будучи энергией, Он не является источником энергии, а получает энергию от другого; следовательно, Он прекратится вместе с прекращением источника энергии. Однако Священное Писание говорит о Святом Духе как об активном бытии, а не как о пассивном приемнике энергии другого: по Писанию, Дух действует, говорит, оскорбляется, бывает разгневан, что свойственно «движущему», а не «движению». Если же Дух есть «сущность», тогда Он - или Бог, или тварь, так как промежуточного состояния между тварностью и божественностью не бывает. Григорий Богослов подчеркивает, что вера в божество Святого Духа является опытом Церкви: веровать и креститься можно только в Бога, а поскольку между Богом и тварью нет ничего среднего, следовательно, Дух есть Бог и не есть ни тварь (κτίσμα), ни произведение (ποίημα) и ни сослужебное (σύνδουλος) (Or. 31. 6). Одним из главных аргументов в пользу божественности Святого Духа для Григория Богослова является понятие совершенства (τελείωσις) Божества: «Что за Божество, если Оно несовершенно? А как Оно может быть совершенным, если Ему чего-то недостает до совершенства? Но недостает чего-то Божеству, если Оно не имеет Святого (τὸ ἅγιον). Но как иметь это, не имея Духа?» (Or. 31. 4). Исхождение Святого Духа от Отца для Григория Богослова также служит достаточным доказательством Его божества: «Дух Святой от Отца исходит (παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται), и поскольку Он исходит от Него, Он - не тварь, а поскольку Он не рожденный, Он - не Сын, наконец, поскольку Он - среднее между Нерожденным и Рожденным (ἀγεννήτου καὶ γεννητοῦ μέσον), Он - Бог» (Ibid. 8; ср.: Ibid. 9; 29. 2: ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον). Дух есть «истинно Дух Святой, исходящий от Отца (προϊὸν ἐκ τοῦ Πατρός), но не как Сын (οὐχ ὑϊκῶς), потому что происходит не рожденно (γεννητῶς), но исходяще (ἐκπορευτῶς)» (Or. 39. 12).
Опровергая силлогизмы собеседника (Дух или нерожден, или рожден; если нерожден, то появляются двое безначальных; если рожден от Отца, то Он брат Сына, а если рожден от Сына, то появляется Бог-внук), Григорий Богослов подчеркивает, что нельзя переносить на Божество понятия, относящиеся к сфере человеческого родства, иначе можно приписать Богу характеристики пола (Or. 31. 7). Возражения Григория Богослова против идей «мужского» Божества, двуполого Бога и Бога-внука отражают коренное различие в понимании значимости богословского языка между ним и его арианствующими оппонентами. В восприятии последних имя выражает сущность предмета; для Григория Богослова имя не есть сущность, оно лишь некое словесное приближение к реальности, которая за ним стоит (Norris. 1991. P. 192). Согласно Григорию Богослову, не существует такого имени или термина, к-рые могли бы адекватно выразить Божественную реальность: Бог есть тайна, и вера в Него есть таинство, а силлогизмы по поводу природы Божией суть «извращение веры и уничижение таинства» (μυστηρίου κένωσις - Or. 31. 23).
На вопрос арианина: «Чего недостает Духу, чтобы быть Сыном?» - Григорий Богослов отвечает: «Мы и не говорим, чтобы чего-либо недоставало, ибо в Боге нет недостатка». Отец является Отцом не потому, чтобы Ему недоставало сыновства; и Сын является Сыном не потому, чтобы ему недоставало отцовства. Сын не Отец, так как есть только один Отец. И Дух не Сын, хотя и от Бога, потому что есть только один Сын (Ibid. 9). Следовательно, Дух есть Бог, единосущный Отцу и Сыну (Ibid. 10).
В ответ на главное возражение арианина: вера в божество Святого Духа не основывается на Священном Писании - Григорий Богослов приводит несколько аргументов. Во-первых, он указывает на то, что и такие термины, как «нерожденное» и «безначальное», являющиеся цитаделями (ἀκροπόλεις) арианского богословия, не встречаются в Писании (Ibid. 23). Или надо отказаться вообще от использования внебиблейской терминологии, или не упрекать православных в том, что они ее используют. Однако отказ от внебиблейских терминов означает в соответствии с учением Григория Богослова полную стагнацию догматического богословия. Во-вторых, Григорий Богослов излагает свою теорию постепенного раскрытия догмата: отсутствие в Священном Писании ясных указаний на божество Святого Духа объясняется тем, что эта истина вводится постепенно и окончательно раскрывается лишь в посленовозаветное время. В-третьих, учение о Святом Духе рассматривается в контексте крещального опыта христианина. Святой Дух возрождает, воссоздает и обоживает человека в таинстве Крещения, что свидетельствует о Его божественной природе: «Если Дух не достоин поклонения, как Он обоживает меня в Крещении? Если же достоин поклонения, как не достоин и почитания? А если достоин почитания, как Он - не Бог? Здесь одно связано с другим: это поистине золотая и спасительная цепь. От Духа - наше возрождение, от возрождения - воссоздание, а от воссоздания - познание о достоинстве Воссоздавшего» (Ibid. 28). Обращение Григория Богослова к крещальной практике Церкви не случайно. Сохранились свидетельства о том, что евномиане крестили «не во имя Святой Троицы, а в смерть Христову» (Socr. Shol. Hist. eccl. V 24) и не 3 погружениями, а одним (об этой практике упоминается в 7-м прав. II Всел. Собора). Ущербное богословие приводило к искажению литургической практики и к отказу от крещальной формулы «во имя Отца и Сына и Святого Духа», восходящей к Самому Христу (Мф 28. 19). В православной традиции, напротив, всегда сохранялось живое чувство неразрывной связи между литургической практикой и ее догматическим выражением: для Григория Богослова сам факт того, что Крещение во имя Святой Троицы общепринято в Церкви, служил достаточным основанием для проповеди равенства, единосущия и божественности всех трех Лиц Святой Троицы.
В-четвертых, Григорий Богослов обращается к Священному Писанию и доказывает, что вопреки утверждениям ариан в нем засвидетельствовано божество Святого Духа. Вера Григория Богослова не является учением о каком-то «странном и неписанном (ἄγραφον) Боге» (Or. 31. 1). Напротив, Священное Писание ясно показывает, что Дух есть Бог. «Христос рождается - Дух предваряет; Христос крестится - Дух свидетельствует; Христос искушаем - Дух возводит Его (в пустыню); Христос совершает чудеса - Дух сопутствует Ему; Христос возносится - Дух преемствует. Ибо что из великих дел, доступных только Богу, недоступно Духу?» Имена Духа, употребляемые в Писании, тоже свидетельствуют о Его божестве: Дух Божий, Дух Христов (Рим 8. 9), Ум Христов, Дух Господень, Господь (1 Кор 2. 16; Ис 61. 1; 2 Кор 3. 17), Дух усыновления, истины, свободы (Рим 8. 15; Ин 14. 17; 2 Кор 3. 17), Дух премудрости, разума, совета, крепости, ведения, благочестия, страха Божия (Ис 11. 2-3), Дух благой, правый, владычественный (Пс 142. 10; 50. 12, 14). Качества, которыми Дух наделяется в Священном Писании, так же свойственны Богу, а не тварному существу. «Он делает (меня) храмом, обоживает и ведет к совершенству, почему и предваряет Крещение, и взыскуется после Крещения. Он действует так, как действует Бог, разделяясь в огненных языках и разделяя дары (ср.: Деян 2. 3; 1 Кор 12. 11), делая (людей) апостолами, пророками, евангелистами, пастырями и учителями» (Or. 31. 29).
Таким образом, акцент делается на обоживающей роли Святого Духа в Крещении и в опыте Церкви. Для Евномия сотериология не имела ничего общего с обожением (Norris. 1991. P. 67), поэтому расхождения между Григорием Богословом и Евномием касаются сердцевинного пункта христианской веры: спор между ними шел не только о триадологической терминологии, но прежде всего о том, как происходит спасение человека.
Григорий Богослов возвращается к пневматологической теме в слове на Пятидесятницу, где также исповедует веру в божество Святого Духа и единосущие Его Отцу и Сыну (Or. 41. 6-9). Учение о божестве Святого Духа нашло отражение и в богословской поэзии Григория Богослова: «Душа моя, что медлишь? Воспой и славу Духа. Не отделяй на словах Того, Кто не вне (Божества) по природе. Мы трепещем перед великим Духом, богоподобным (ὁμοίθεον), через Которого я познал Бога, Который Сам есть Бог и Который меня уже здесь делает богом. Всемогущий, раздаятель даров, воспеваемый чистыми песнопениями Небесных и земных, Податель жизни, Сидящий на высоком престоле, Исходящий от Отца, Божественная сила, Самовластный. Он не Сын,- ибо у единого Всеблагого один благой Сын,- Но Он и не вне невидимого Божества, а равночестен (Отцу и Сыну)» (Carm. dogm. 3 // PG. 37. Col. 408-409).
IV. Единство в Святой Троице. В понимании Григория Богослова, Божественная Троица - это три Ипостаси, равные и единосущные одна другой, соединенные между собой единством сущности, силы, воли, мысли и действия. Тайна единства в троичности открывается людям в том числе и для того, чтобы научить их жить в единстве мира и любви: Троица «является и исповедуется единым Богом не менее по единодушию, как и по тождеству сущности; поэтому и близки к Богу и божественным духам все те, кто любит благо мира... к противоположной же стороне принадлежат те, что воинственны нравом» (то есть варварские племена, склонявшиеся к арианству - Or. 6. 13). Призывая к церковному единству, Григорий Богослов напоминает слушателям о согласии, гармонии, мире, единомыслии и любви, которые царствуют внутри Святой Троицы. В 23-м слове, говоря о необходимости примирения между враждующими партиями внутри одной Церкви (имеются в виду, вероятно, мелетиане и павлиниане) перед лицом общего врага - арианства, Григорий Богослов приводит в пример Святую Троицу: «Троица поистине есть Троица, братья... Природа Божества... всегда согласна Сама с Собой... всегда совершенна... Она есть жизни и жизнь, светы и свет, блага и благо, славы и слава, Истинное и Истина и Дух истины, святые и святое само в себе: каждое из них есть Бог... но и три вместе суть Бог... Так вкратце (излагаю наше учение)... чтобы вы, выступающие против нас публично... познали, что мы одно мыслим, одним духом воодушевлены, одним духом дышим... Вот на ваших глазах подаем мы друг другу руки! Вот дела Троицы, Которую мы одинаково славим и Которой одинаково поклоняемся» (Or. 23. 10-13). Согласно Григорию Богослову, существует тесная связь между единством верующих, собранных в одно тело Церкви, и единством Троицы. Догматические нововведения опасны не только сами по себе, но еще и потому, что они нарушают церковное единство. Говоря об этом в 22-м слове, Григорий Богослов, однако, подчеркивает, что требует не унификации догматического языка, а скорее единомыслия в основных вероучительных вопросах: «Установим себе не тот один предел благочестия, чтобы поклоняться Отцу, Сыну и Святому Духу, единому в Трех Божеству и единой Силе... Но, определив это, будем единомысленны и в остальном как держащиеся одной Троицы, почти одного и того же догмата (τοῦ αὐτοῦ σχεδὸν δόγματος) и одного тела» (Or. 22. 12). Выражение «почти одного и того же догмата» указывает на то, что внутри единого тела Церкви возможны небольшие разногласия по тем или иным догматическим формулировкам при сохранении вероучительного единства в целом (ср.: Basil. Magn. Ep. 113).
Тема единства в троичности является лейтмотивом всего корпуса «Слов о богословии». Однако здесь Григорий Богослов озабочен не церковным единством, а борьбой с арианскими искажениями православной доктрины. Одним из таких искажений было утверждение о том, что православные верят в трех Богов: «Если,- говорят,- Бог, Бог и Бог, то как же не три Бога?.. Один у нас Бог, потому что Божество одно. И к Единому возводятся Те, Которые от Единого, хотя и веруем в Трех. Ибо как Один не больше, так и Другой не меньше есть Бог, и Один не раньше, и Другой не позже; Они не рассечены волей (βουλήσει) и не разделены силой (δυνάμει)... Напротив, Божество неразделимо в разделенных... как в трех солнцах, заключенных одно в другое, одно растворение света. Итак, когда взираем на Божество и Первую Причину и монархию, тогда представляемое нами одно; а когда на Тех, в Ком Божество, на Тех, Которые от Первой Причины существуют вневременно и равночестно, тогда поклоняемся Трем» (Or. 31. 13-14). Единство в Троице, таким образом, обусловлено единством Отца, с Ипостасью Которого в каппадокийском богословии связаны понятие Первой Причины и идея монархии (Or. 29. 15; ср.: Basil. Magn. De Spirit. Sanct. 21, 38). Кроме того, Григорий Богослов, так же как и другие каппадокийцы, говорит об общей видовой сущности (οὐσία) как принципе Божественного единства: «Наше учение таково: как для коня, быка, человека и для каждой вещи, принадлежащей к одному и тому же виду (ὑπὸ τὸ αὐτὸ εἶδος), есть одно понятие (λόγος), и что причастно этому понятию, о том оно сказывается в собственном смысле, а что не причастно, о том или не сказывается, или сказывается в несобственном смысле, так есть одна сущность, природа и имя Божие (θεοῦ μίαν οὐσίαν εἶναι καὶ φύσιν καὶ κλῆσιν)» (Or. 29. 13). Если в тварях единство сущности представляется только мысленно (ἐπινοίᾳ), а индивидов много и они разделены между собой временем, состояниями и силами, то в Троице наоборот: «Каждое из Лиц по тождеству сущности и силы (τῷ ταὐτῷ τῆς οὐσίας καὶ τῆς δυνάμεως) имеет такое же единство с соединенным (Лицом), как и с Самим Собой. Таково понятие этого единства (ὁ τῆς νώσεως λόγος), насколько мы постигаем его» (Or. 31. 15-16).
Единство трех Ипостасей является тайной, выходящей за пределы человеческого восприятия; поэтому никакие подобия из жизни тварного мира не способны изобразить это единство. Григорий Богослов, например, говорит о человеческой семье как образе Святой Троицы: как Сиф рожден от Адама, а Ева взята из ребра Адама, так и Сын рожден от Отца, а Святой Дух исходит от Отца (Carm. dogm. 3 // PG. 37. Col. 411). В 31-м слове Григорий Богослов приводит 3 других образа: 1-й, наиболее традиционный,- родник, ключ и река; 2-й - солнце, солнечный луч и солнечный свет; 3-й - солнечный зайчик, который движется по стене столь быстро, что бывает видим одновременно в нескольких местах. Однако у всех образов есть существенные недостатки: 1-й наводит на мысль о движении в Божестве и сводит Божественное единство к единству арифметическому; 2-й представляет Божество сложным и, приписав сущность Отцу, делает два других Лица несамостоятельными; в 3-м слишком очевидно наличие приводящего в движение, тогда как первоначальнее Бога нет ничего, да и вообще движение и колебание не свойственны Божеству (Or. 31. 31-33). Поэтому, заключает Григорий Богослов, «я рассудил, что лучше мне отставить в сторону все образы и тени как обманчивые и весьма удаленные от истины, самому же придерживаться более благочестивого образа мыслей, остановившись на немногих терминах... и других по мере сил убеждать поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу - единому Божеству и силе» (Or. 31. 33). Григорий Богослов говорит о едином в трех Лицах Боге-Троице как о самом сокровенном таинстве христианской веры: Он - «Святое Святых, сокрываемое от самих серафимов и прославляемое тремя возгласами «Свят», восходящими к единому Господству и Божеству» (Or. 45. 4). В 40-м слове, посвященном празднику Богоявления, Григорий Богослов говорит о единстве Троицы в контексте крещальной практики Церкви и собственного христианского опыта (Or. 40. 41). Особенностью учения Григория Богослова о Святой Троице является также своеобразная «диалектика единства и троичности», широко распространившаяся в византийском богословии (в «Ареопагитиках», у преподобного Максима Исповедника, епископа Николая Мефонского, святителя Григория Паламы и других), примером которой могут служить следующие слова Григория Богослова: «Единица в Троице и Троица в Единице покланяемая, имеющая необыкновенное разделение и соединение» (Or. 25. 17); «Единица в Троице покланяемая и Троица в Единицу соединяемая» (Or. 6. 22; ср.: Or. 26. 19; 40. 41).
Учение о творении
I. Бог Творец и образ творения. По мысли Григория Богослова, причина творения мира заключается в благости (ἀγαθότης) Творца: «Для Благости было недостаточно двигаться в созерцании Самой Себя, но Благу надлежало разливаться и идти далее, чтобы число благодетельствуемых было как можно больше, ибо это свойственно высшей Благости» (Or. 38. 9). В акте творения, согласно Григорию Богослову, участвовала вся Святая Троица: тварный мир был задуман Отцом, однако сотворен при помощи Слова и Духа. Актуальному творению мира предшествовало идеальное: «Мирородный Ум рассматривал в Своих великих мыслях Им же составленные образы мира, который возник впоследствии, но для Бога и тогда был настоящим… Тогда, в вечности, Ум все породил в Себе, а рождение во-вне совершилось... когда открыло великое Слово Божие» (Carm. dogm. 4 // PG. 37. Col. 421). Бог «Словом рассеял тьму, Словом произвел свет, основал землю, округлил небо, распределил звезды, разлил воздух, установил границы моря, протянул реки, одушевил животных, сотворил человека по Своему подобию, привел все в порядок» (Or. 5. 31).. Говоря об участии Святого Духа в творении, Григорий Богослов цитирует библейские выражения, которые в христианской традиции воспринимались как указание на Его участие: «Этот Дух созидает с Сыном в творении и в воскресении. В этом пусть убедят тебя (слова): «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его - все воинство их» (Пс 32. 6); «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь» (Иов 33. 4); «Пошлешь Дух Твой - и созидаются, и Ты обновляешь лице земли»» (ср.: Пс 103. 30, по LXX) (Or. 41. 14). Сын-Слово и Святой Дух воплощают творческие замыслы Отца: «Мысль стала делом, которое исполнено Словом и довершено Духом» (Or. 38. 9). Будучи сотворен при участии трех Лиц Святой Троицы, объединенных между Собой в гармоничное и неразрывное единство, тварный мир носит на себе отпечаток этой Божественной гармонии и свидетельствует о своем Создателе. Говоря о Творце и творении, Григорий Богослов пользуется библейским образом горшечника и глины и подчеркивает отличие христианского Бога-Творца от платоновского демиурга. Григорий Богослов учит, что Бог сотворил весь мир, в том числе и материю, не из предсуществовавшей материи, но «из не сущего» (ἐξ οὐκ ὄντων): «Веруй, что весь мир, видимый и невидимый, был сотворен Богом из не сущего» (Or. 40. 45; 29. 9). Опровергая представления о «самопроизвольности» (τὸ αὐτόματον) и «случае» (ἡ τύχη) как движущей силе мироздания, Григорий Богослов говорит о том, что разум-логос, рассматривая видимый мир, на основе наблюдаемого в нем порядка и благоустройства (εὐαρμοστία καὶ εὐταξία) ведет человека к отрицанию идеи самопроизвольности и признанию единого Художника и Правителя вселенной (Or. 28. 6). В основе рассуждений Григория Богослова лежит стоическая идея врожденного логоса как внутреннего закона, который управляет каждым человеком в отдельности и всем мирозданием в целом (Or. 28. 16). Идее самопроизвольности Григорий Богослов противопоставляет учение о Промысле Божием (πρόνοια), который все в мире сохраняет и связывает. Если бы мир управлялся случаем, как корабль бурным ветром, он должен был бы разрушиться по причине беспорядочного движения (Or. 14. 33). Мир не продержался бы так долго, если бы в нем царила анархия (Carm. dogm. 5 // PG. 37. Col. 425).
Григорий Богослов также решительно отвергает идею о том, что миром управляют звезды, презрительно отзывается о «гороскопах и зодиакальных кругах» (Ibid. Col. 427). Под одной звездой рождаются царь и подданные, среди которых есть добрые и злые, писатели, торговцы и бродяги. Родившихся под разными звездами постигает одна участь на море и на войне, а кого не связали между собой звезды, связала одинаковая кончина (Ibid. Col. 425). Промысл Божий непостижим для человека, и далеко не все законы, управляющие миром, ему известны (Ibid. Col. 432). Григорий Богослов называет Бога великим Оком, видящим все, что происходит на земле, в морских глубинах и в человеческом уме (Carm. de se ipso 1 // PG. 37. Col. 1008). Всеведение и всевидение Бога, Его Промысл и благая забота простираются на весь мир, на каждое живое существо. Не только дары природы, но и дары веры доступны всем (Or. 32. 22-23). Григорию Богослову принадлежит заслуга в точном определении порядка творения, состоящего из 3 этапов: сначала Бог сотворил мир духовный, ангельский, как наиболее близкий к Нему по природе; затем - мир телесный, материальный, наиболее удаленный от Бога по природе; наконец, человека, в котором Бог явил «признак высшей премудрости и щедрости в образовании природ», соединив в нем оба мира - духовный и телесный (Or. 38. 9-11; 45. 5-7; Carm. dogm. 4, 8). Бог, устроив мир, «с первого же мгновения приводит его в движение по великим и непреложным законам (μεγάλοισιν ἀκινήτοισι λόγοισιν), как волчок, вертящийся под ударом» (Carm. dogm. 5 // PG. 37. Col. 424).
II. Тварное бытие. Наряду с другими отцами Церкви IV века Григорий Богослов настаивает на онтологическом различии между Богом и тварным бытием: «Если Бог, то не тварь... Если же тварь, то не Бог, ибо получила начало во времени. А если получила начало, то было, когда ее не было» (Or. 42. 17; отголосок арианской фразы: «Было, когда не было (Сына)»). По образному сравнению Григория Богослова, онтологическая пропасть между Божеством и тварным миром подобна пропасти, существующей в Римской империи между господством и рабством. Речь идет не о том социальном различии, которое противоестественно, подчеркивает Григорий Богослов, не о том, «что у нас или насилием рассечено, или бедностью разъединено», но о том, что «разделила природа», то есть что онтологически иноприродно,- Боге и твари. В Божестве есть «что-то творческое, начальственное и неподвижное», а в тварном мире - «что-то сотворенное, подчиненное и разрушаемое»; Божество выше времени, а тварь подвластна времени (Or. 34. 8).
Однако Григорий Богослов не столь последователен в утверждении инаковости тварного бытия по отношению к Богу. Согласно его учению, в иерархии тварных существ возможны различные степени близости к Богу, так что одна тварь превосходит в этом отношении другую (Ibidem). Среди тварных существ есть некоторые весьма близкие Богу и даже «родственные» Ему, а есть совершенно далекие от Бога и чуждые Ему. К первым относятся ангелы, к последним - чувственные живые существа и еще в большей степени неодушевленные предметы. Все возможные степени родства с Богом или инородности Ему располагаются между этими полюсами (Or. 38. 9-10). Несмотря на иноприродность тварных существ по отношению к Богу, все тварное бытие, будучи созданием Божиим, неразрывно связано со своим Создателем. Бог присутствует на обоих уровнях тварного бытия - и в мире духовном, и в мире материальном: ангелы, люди, все живые существа и даже неодушевленные предметы способны приобщаться к Божественному свету и становиться его носителями. Григорий Богослов представляет все тварное бытие как иерархию светов, восходящую к первому и верховному Свету - Богу; вторым светом является ангел - «некая струя или причастие первого Света»; третий свет есть человек (Or. 45. 5). Иерархическая структура тварного бытия обеспечивает присутствие Бога на всех его уровнях: Божественный свет более ощутим на высших уровнях, в мире ангелов, однако и в материальном мире есть своя иерархия светов, отображающая Божественный свет (Ibidem).
Для Григория Богослова ангелы - носители Божественного света преимущественно перед всеми другими тварями. Он говорит об ангелах как светоносных духовных, разумных существах, которые «первыми пьют от первого Света, и просветляются словом истины, и сами суть свет и суть отблески совершенного Света» (Or. 6. 12). Григорий Богослов называет ангелов «разумными духами и как бы невещественным и бестелесным огнем» (Or. 38. 9; 45. 5); однако он не утверждает их абсолютной бестелесности, говоря об ангельской природе: «Да будет она у нас бестелесна или, насколько возможно, близко к этому» (Or. 28. 31). По Григорию Богослову, существуют различные чины ангелов, озаряемых Божественным светом и поставленных Богом на служение людям (Or. 28. 31). Хотя он не делает попытки систематизировать ангельские чины, в его представлении, несомненно, существует некая иерархия ангелов, в соответствии с которой одни получают свет непосредственно от Первой Причины, другие - «иным образом». Григорий Богослов упоминает 9 ангельских чинов, причем 7 идентичны перечисляемым в ареопагитском трактате «О небесной иерархии»; вместо имен херувимов и серафимов в списке Григория Богослова стоят «светлости» и «восхождения».
Учение о человеке
Антропология Григория Богослова представляет собой синтез библейского учения о человеке и античной философской антропологии. Он выделяет несколько главных тем, основанных на библейском откровении: сотворение человека из материального и духовного начал, образ и подобие Божии в человеке, человек как царь видимого мира, как храм Божий, как посредник между материальным и духовным миром. Среди антропологических тем, унаследованных от античности,- человек как «разумное животное» и как «микрокосмос», тело как «темница души» и другие.
Античное изречение «Познай самого себя» становится отправным пунктом для антропологических рассуждений Григория Богослова. Это изречение наводит его на мысль о таинственности и непостижимости природы человека, который является загадкой для самого себя (Or. 28. 22; 32. 27). Григорий Богослов определяет человека как «существо разумное» (ζῷον λογικόν, выражение заимствовано из античной философии), в котором персть таинственно и неизъяснимо связана с умом и ум - с духом (Or. 32. 9). Чаще всего Григорий Богослов говорит о человеке как двусоставном существе, подчеркивая, что, будучи посредником между материальным и нематериальным мирами, человек носит в себе характерные черты обоих: своим умом, или духом, он связан с нематериальным, божественным и невидимым, тело же его принадлежит к области материального, земного и видимого (Or. 38. 11; 40. 8; о дихотомизме Григория Богослова смотреть: Ellverson. P. 17 sqq.). Интерпретируя изначальную дихотомию человеческого естества, Григорий Богослов пользуется античной идеей «микрокосмоса» (Демокрит, Гален, Филон Александрийский). Но если античные философы говорили о человеке как «малом мире», то для Григория Богослова именно материальный мир является «малым» по сравнению с макрокосмосом-человеком, поскольку человек заключает в себе обе реальности - материальную и духовную, в то время как мир обладает лишь одним материальным бытием (Or. 38. 11; 45. 7).
Будучи одновременно духовным и телесным, человек представляет собой нечто парадоксальное, невместимое для ума. Он есть творение «славное и бесчестное», в котором есть закон, ум и надежда, но которое обречено на сосуществование с неразумными животными (Or. 7. 22). «Что это за новое обо мне таинство? - вопрошает Григорий Богослов - Я мал и велик, смирен и высок, смертен и бессмертен, я земной и небесный - первое во мне от дольнего мира, второе от Бога; одно - от плоти, другое - от духа» (Or. 7. 23). Григорий Богослов развивает традиционный для христианства тему образа Божия в человеке: «Человек есть тварь и образ великого Бога» (Carm. de se ipso 45 // PG. 37. Col. 1354), «прекрасный и нетленный образ небесного Слова» (Carm. ad alios 7 // PG. 37. Col. 1555). Григорий Богослов придерживался взгляда, согласно которому образ Божий заключается в человеческой душе, в ее высшей части - уме (νοῦς), рассудке (διάνοια) или духе (πνεῦμα) (Carm. moral. 10 // PG. 37. Col. 688). Душа есть «частица Божества» в человеке (Ibid. Col. 690); однако, будучи «Божиим дыханием», она претерпевает «смешение с перстью» (Carm. dogm. 8 // PG. 37. Col. 446). Душа в теле - это «свет, скрытый в пещере (φάος σπήλυγγι καλυφθέν), однако же божественный и неугасимый» (Ibid. Col. 446-447). В этих словах Григория Богослова можно услышать отголосок платоновского представления о жизни как темнице и теле (σῶμα) как могиле (σῆμα) души (Plat. Phaed. 62b; Idem. Cratyl. 400c), которое было известно Григорию Богослову (Ep. 33). Последний, однако, отвергал платоновскую веру в метемпсихоз - переход души из одного тела в другое. Не разделял он ни учения Платона о «мировой душе», ни материалистического представления о душе, свойственного некоторым греческим философам (Carm. dogm. 8 // PG. 37. Col. 447-450). Античному представлению о душе, кочующей из одного тела в другое, противопоставляется христианская концепция человека, в котором душа неразрывно соединена с телом. Григорий Богослов не разделяет такого отношения к телу, при котором последнее воспринимается как нечто чуждое душе, низменное и злое по природе. Хотя он нередко говорит о теле как препятствии на пути к Богу, все подобные высказывания относятся к человеческому телу после грехопадения; в первозданном же человеке подчеркиваются красота и гармоничность тела, сотворенного Богом как достойное вместилище бессмертной души. Премудрость Творца, проявившаяся и в душе, и в теле созданного Им человека, вызывает благоговейное удивление у Григория Богослова (Or. 28. 22). Главное назначение и призвание человека - восходить от земного к небесному, от человеческого к Божественному (Or. 2. 17; 38. 11). Бог создал человека для того, чтобы он достигал большей славы и, «заменяя в себе земное (на небесное)... как бог, шел отсюда к Богу» (Carm. dogm. 8 // PG. 37. Col. 454). Будучи богом по Божественному замыслу, человек должен достичь такой степени богоуподобления, при которой он станет всецело обоженным. Цель жизни человека - «сделаться богом и духом... стать в чине светозарного ангельского лика, получив за великие труды еще большую награду» (Carm. de se ipso 45 // PG. 37. Col. 1355; ср.: Or. 38. 11).
Поворотным пунктом, изменившим весь ход истории человечества, стало грехопадение Адама. Однако еще прежде человека один из высших ангелов, «светоносец» (греческое ωσφόρος, латинское lucifer, славянское денница), воспротивился Богу, отпал от Него и превратился в диавола; последовавшие его примеру другие ангелы стали демонами. Учение о падении «светоносца» отражено в нескольких словах Григория Богослова, а также в его богословской поэзии. Отвечая на вопрос о причине этого падения, Григорий Богослов говорит о зависти и превозношении денницы (Or. 36. 5), а также о гордости, по которой он утратил свет и славу и стал ненавистником человеческого рода (Carm. dogm. 4 // PG. 37. Col. 419). Гордость диавола выразилась в том, что он захотел стать равным Богу и сам сделаться богом (Carm. dogm. 7 // PG. 37. Col. 443-444). За свое противление Богу враг не был уничтожен, однако не остался и на свободе: Бог попустил диаволу внедриться в среду людей, чтобы люди научились побеждать его и через борьбу с ним очищались, как золото в горниле (Ibid. Col. 445). Со Своей стороны Бог заботится о том, чтобы действия диавола, направленные на зло, были превращены в добро. Диавол не самостоятелен в своей активности, он вынужден обращаться к Богу за разрешением: «...он и среди ангелов предстоит, требуя Иова» (Or. 24. 9). История с Иовом показывает, что диавол может действовать только в тех пределах, которые назначены ему Богом.
Григорий Богослов единодушен с восточнохристианской традицией, согласно которой зло не есть сущность, а есть лишь отсутствие добра, точно так же как тьма является отсутствием света; оно не-ипостасно, оно не есть бытие, а есть «ничто» (см.: Orig. In Ioan. II 3; Athanas. Alex. Or. contr. gent. 6; Greg. Nyss. De vita Moysis // PG. 44. Col. 420; Or. catech. 5 // PG. 45. Col. 24). Излагая учение о грехопадении, Григорий Богослов пользуется аллегорической интерпретацией рая (Or. 38. 12). По его мнению, рай - это «небесная жизнь», райские деревья - «божественные помыслы», древо познания добра и зла - «созерцание, к которому безопасно могут приступать только совершенные навыком» (Ibidem). В райском состоянии человек был «чист от греха, чужд всякой двуличности», «наг по простоте и безыскусной жизни», имел «добрые наклонности», находился «в равновесии между добром и злом и по своему собственному выбору мог склоняться к тому или другому» (Ibidem). Диавол по зависти к человеку обманул его «надеждой на божественность» (Or. 39. 13), и «человек забыл данную ему заповедь, был побежден горьким вкушением и из-за греха стал изгнанником, удаляемым в одно время и от древа жизни, и из рая, и от Бога» (Or. 38. 12). Следуя александрийской традиции, Г. Б. рассматривает «кожаные ризы», сделанные Богом для Адама и Евы после грехопадения, как грубую, тленную плоть. При этом Г. Б. делает различие между первозданным телом (σῶμα) человека и той «тяжелой плотью» (βαρεῖα σάρξ), в к-рую тело превратилось в результате грехопадения (Ibidem). Если тело, созданное Богом, было прекрасным и находилось в гармоничном сосуществовании с душой, то грубая плоть падшего человека находится в постоянном противоборстве с душой и умом (Carm. de se ipso 45 // PG. 37. Col. 1359-1361). В результате грехопадения была нарушена гармония между духовным и телесным началами в человеке: хотя тело и остается «родственником и сослужителем» души, оно тем не менее нередко объявляет войну душе (Or. 14. 6-8).
После грехопадения в жизнь человека вошли болезни и смерть, которую Григорий Богослов рассматривает как проявление человеколюбия Божия, поскольку смерть становится «пресечением греха, чтобы зло не стало бессмертным» (Or. 38. 12). «Корень зла» (ἡ τῆς κακίας ῥίζα) произрастил множество грехов и злодеяний (Ibid. 13). Грехопадение человека затронуло всю тварь, которая «совоздыхает и соболезнует (человеку), подчинившись тлению», и «ожидает своего освобождения» (Or. 4. 15). Сделавшись «узником плоти», которая влечет его ко греху (Carm. de se ipso 45 // PG. 37. Col. 1357-1358), человек нуждается в аскетических подвигах ради умерщвления греховной плоти. После грехопадения он продолжает жить надеждой на обожение. Последнее совершается Христом, однако лишь в «сотрудничестве» с самим человеком. Вся жизнь должна стать непрестанным подвигом борьбы со страстями и пороками, преуспеяния в добродетели ради достижения того, к чему от начала призван человек (Or. 4. 124).
Христология
I. Представление о Сыне Божием в Священном Писании. Главным аргументом ариан против учения о божестве Сына и Его равенстве с Отцом было то, что это учение якобы противоречит свидетельству Священного Писания, где не сказано, что Сын является Богом. Григорий Богослов, однако, убежден в обратном: никейская вера основывается на свидетельстве Писания. Главным текстом, где прямо говорится о божестве Сына, является пролог Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин 1. 1). Однако и многие другие тексты прямо или косвенно указывают на равенство Сына с Отцом: те, в которых Он назван «Началом», Сыном единородным, Путем, Истиной, Жизнью, Светом, Мудростью, Силой, Сиянием, Образом, Печатью, Господом, Царем, Сущим, Вседержителем (Or. 29. 17). Кроме того, бесчестно по отношению к Богу обходить молчанием «возвышающие» выражения в Писании по отношению к Сыну Божию и выставлять на вид «умаляющие». Многочисленные тексты, которые находятся в арсенале ариан и, по мнению последних, прямо говорят о неравенстве между Отцом и Сыном (например, тексты, в которых Христос называет Отца «Богом», говорит, что Отец больше Его, что Он не может ничего творить Сам по Себе, а также многочисленные места, в которых Христу приписываются неведение, покорность или говорится о Его человеческих качествах), должны, согласно Григорию Богослову, быть истолкованы в контексте учения Церкви о двух природах во Христе. В Писании есть выражения, которые относятся к Иисусу Христу как Богу, а есть те, что подчеркивают реальность Его человеческой природы. Основной герменевтический принцип, выдвигаемый Григорием Богословом, заключается в том, чтобы относить все «возвышенное», сказанное о Христе, к Его божественной природе, а все «унизительное» - к человеческой природе (Or. 29. 18; 38. 15).
Первым из текстов, обсуждавшихся в антиарианской полемике, являются слова из Книги Притчей Соломоновых: «Господь создал меня началом путей Своих» (Притч 8. 22 по LXX). Поскольку в христианской традиции София - Премудрость Божия, как правило, отождествлялась с Христом, слово «создал» (ἔκτισε), по мнению ариан, должно указывать на тварную природу Сына Божия. Григорий Богослов, однако, настаивает на том, что слово «создал» относится к человеческой природе Христа. В той же Книге Притчей, отмечает он, говорится, что Господь «рождает» (γεννᾷ) Премудрость (ср.: Притч 8. 25 по LXX), а это относится к вечному рождению Сына Отцом (Or. 30. 2). «Итак, кто станет оспаривать то, что Премудрость называется творением по дольнему рождению, а рождаемой - по рождению первому и более непостижимому?» (Ibidem).
Подобным же образом следует подходить к текстам из Книги пророка Исаии, где Сын назван «рабом» Бога (Ис 49. 6; 53. 11). Это выражение относится не к божественной природе Сына, но к Богу, ставшему человеком; они должны пониматься в контексте идеи «кеносиса»-истощания Бога Слова, Которое ради нас стало человеком, чтобы обожить человеческую природу (Or. 30. 3). Григорий Богослов намеренно ссылается на тексты, которые в глазах ариан свидетельствовали о неравенстве между Сыном и Отцом, чтобы подчеркнуть величие таинства обожения человеческой природы, происшедшего в лице Иисуса Христа, в результате соединения и «смешения» с божеством. Для Григория Богослова эта идея имеет ключевое значение, поскольку именно на ней основана его вера в обожение человека.
Следующая группа текстов, указывающих, по мысли ариан, на то, что Сын не совечен Отцу, содержится в НЗ: «...Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои» (1 Кор 15. 25); «Которого небо должно было принять до времен совершения всего...» (Деян 3. 21); «седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих» (Евр 1. 13; ср.: Пс 109. 1). Согласно Григорию Богослову, слово «доколе» в библейском словоупотреблении не всегда указывает на временный характер действия; кроме того, эти тексты имеют двойной характер и могут быть истолкованы применительно к домостроительству - принятию на Себя Богом человеческой природы для нашего спасения. Впрочем, и истолкованные применительно к Божеству, эти тексты говорят о совечности и единосущии Сына Отцу (Or. 30. 4).
Принимая на Себя человеческую природу, Христос «усваивает» Себе все, что свойственно человеку в его греховном состоянии. Будучи непричастен греху, Он берет на Себя все последствия греха для того, чтобы освободить и искупить человека. Все человеческое страдание, которое является результатом грехопадения, воспринято воплотившимся Словом. В этом контексте понимает Григорий Богослов слова Иисуса на Кресте: «Боже мой, Боже мой! Для чего Ты Меня оставил?» (Мф 27. 46). Этот крик богооставленности не означает, что Отец оставил Сына в момент крестного страдания или что божество Христа разлучилось с Его человечеством, но что Христос принял на Себя богооставленность как наивысшее страдание человека. Это не Сын, разлученный с Отцом, вопиет к Нему, и не человек Иисус, отделенный от Бога Слова, но все человечество в лице Христа взывает к Богу, от Которого оно отпало и к Которому благодаря крестному подвигу Спасителя теперь возвращается (Or. 30. 5). Идея «представительства» Христа, Который берет на себя все человеческое, чтобы его обожить, применяется и к словам апостола Павла о вопле, слезах, молитве и молении Иисуса «Могущему спасти Его от смерти» и о том, что Сын «страданиями навык послушанию» (Евр 5. 7-8). Все это, говорит Григорий Богослов, совершает Христос от нашего лица: «Как образ раба, снисходит Он к сорабам и рабам, принимает на Себя чуждый облик, принимает в Себя всего меня и все мое, чтобы в Себе истребить мое худшее, как огонь истребляет воск, а солнце - пар с земли, и чтобы я, благодаря смешению (σύγκρασιν) с Ним, приобщился к тому, что свойственно Ему» (Or. 30. 6).
Слова «Отец Мой более Меня» (Ин 14. 28) следует уравновешивать словами о равенстве Сына Отцу (ср.: Ин 5. 18-21): Отец больше Сына, поскольку является Его Причиной, однако равен Сыну по естеству (Or. 30. 7). Слова «восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин 20. 17) надо понимать в том смысле, что Отец является Богом Сына как человека, но Отцом Сына как Бога, равного Ему по естеству (Or. 30. 8). В том же контексте должны интерпретироваться слова о том, что «никто не благ, как только один Бог» (Лк 18. 19): эти слова были ответом Иисуса законнику, который признавал благость во Христе как в человеке; Иисус же показывал, что в собственном смысле благ один Бог (Or. 30. 13). В словах о том, что никто не знает последнего дня и часа, ни ангелы, ни Сын, а только Отец (Мк 13. 32), Христос приписывает Себе неведение как человек, а не как Бог, причем это можно признать, если только «отделить видимое от мыслимого», поскольку в действительности природы Христа нераздельны (Or. 30. 15).
Большой интерес представляет интерпретация Григория Богослова текстов, в которых говорится о «действии» и «воле» Сына Божия. Один из текстов: «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего» (Ин 5. 19). По мысли Григория Богослова, понятие «может» указывает здесь не на ограниченность возможностей Сына, а на то, что Он не действует независимо от Отца, но Его действие находится в гармоничном единстве с действием Отца. Выражение «если не увидит Отца творящего» нельзя понимать в том смысле, что сначала действие совершает Отец, а потом то же самое совершает Сын. Речь должна идти не о слепом копировании Сыном действий Отца, но об исполнении на деле того, что Отец предначертал (Or. 30. 11).
Григорий Богослов касается также проблематики двух действий во Христе. В конце 29-го слова он приводит двойной ряд действий Христа, обнаруживающих Его человеческую и божественную природы: «Он был искушаем как человек, но победил как Бог… алкал, но напитал тысячи… жаждал, но… и обещал, что верующие источат воды жизни… утруждался, но Сам есть упокоение труждающихся и обремененных; Его отягощал сон, но Он легок на море, запрещает ветрам, подъемлет утопающего Петра… спрашивает, где положен Лазарь, потому что был человек, но и воскрешает Лазаря, потому что был Бог» (Or. 29. 20; ср.: Ep. 102. 24-27). Кроме того, Григорий Богослов говорит о прямой связи между действиями Сына и волей Отца. При разборе слов Христа: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» (Ин 6. 38),- он затрагивает вопрос о человеческой воле Христа и утверждает, что у Христа нет воли, отличной от воли Отца, но что Его воля едина с волей Отца; при этом подчеркивает, что Христос как человек обладает всей полнотой и всеми свойствами человеческой природы (Or. 30. 12). В спорах о двух действиях и двух волях во Христе (VI-VII века) каждая из противоборствующих партий (монофелиты и дифелиты) была уверена, что Григорий Богослов занял бы именно ее позицию: с одной стороны, Григорий Богослов утверждает, что во Христе нет иной воли, кроме воли Отца, с другой - слова святителя не противоречили и учению дифелитов, одержавших победу на Вселенском VI Соборе. В Исповедании веры этого Собора не только упоминается имя Григория Богослова в одном ряду с именами святителя Афанасия I Великого, святителя Льва I Великого и святителя Кирилла Александрийского, но и цитируются его слова о том, что воля Христа «не противна Богу как всецело обоженная» (Or. 30. 12). Христологические воззрения Григория Богослова были развиты преподобным Максимом Исповедником.
В 30-м слове Григория Богослова анализирует текст, в котором говорится о Христе как о «ходатае» за людей (ср.: Евр 7. 25). Ходатайствовать (πρεσβεύειν) - значит предстательствовать в качестве посредника, говорит Григорий Богослов. Ходатайство Христа имеет как сотериологическое, так и нравственное значение: будучи человеком, Христос молится о спасении и обожении человечества, но также подает пример терпения людям (Or. 30. 14). Будучи безгрешным по человечеству, поскольку «воспринял всего человека кроме греха» (De vita sua // PG. 37. Col. 615; Or. 30. 21; 38. 13), Христос усвоил Себе наши греховность, проклятие, осуждение, богооставленность, чтобы от всего этого освободить нас (Or. 30. 5, 21).
Заключительная часть 30-го слова посвящена рассмотрению имен Христа, встречающихся в Священном Писании. Несмотря на давний интерес к этой теме (Or. 2. 98; Carm. de se ipso 38 // PG. 37. Col. 1325-1326), лишь в «Словах о богословии» Григорий Богослов рассмотрел имена Христа систематически. Будучи последовательным защитником учения о двух природах во Христе, он разделяет имена Христа на 2 категории - принадлежащие «тому, что выше нас и что ради нас», и принадлежащие «нам и воспринятому от нас» (Or. 30. 21). Один ряд имен подчеркивает божество Христа, другой - Его человеческую природу. В 1-м ряду находятся имена «Сын», «Единородный», «Слово», «Премудрость», «Сила», «Истина», «Образ», «Свет», «Жизнь», «Правда», «Освящение», «Избавление», «Воскресение». Христос назван Сыном как «тождественный Отцу по сущности»; Единородным - «не потому, что Он един от Единого и един единственно, но потому, что (рожден) единственным образом, а не как тела»; Словом - потому что возвещает об Отце и являет Отца; Премудростью - как «знание божественных и человеческих предметов»; Силой - как Тот, Кто охраняет все, получившее бытие, и подает силы к продолжению бытия. Христос назван Истиной - «как единое, а не множественное по природе... и как чистый отпечаток и безошибочное отображение Отца; Образом - как Единосущный, происшедший от Отца, как «живой Образ», имеющий большее сходство с Отцом, чем всякое человеческое порождение с родившим его; Светом - как «светозарность душ, очищенных разумом и жизнью». Христос назван Жизнью - по «двоякой силе вдохновения», то есть по дыханию жизни (ср.: Быт 2. 7), которое Он вдохнул во всех людей, и по Духу Святому, Которого подает способным вместить; Справедливостью - потому что по достоинству судит тех, которые «под законом» и которые «под благодатью» (ср.: Рим 6. 14); Освящением - «как чистота, чтобы чистое было вмещаемо чистым»; Избавлением (ἀπολύτρωσις) - «как отдавший себя в искупление для очищения вселенной»; Воскресением - как вводящий в жизнь тех, кто был умерщвлен грехом (Or. 30. 20).
Во 2-м ряду имен находятся те, что относятся к человеческой природе Христа: «Человек», «Сын человеческий», «Христос», «Путь», «Дверь», «Пастырь», «Овца», «Агнец», «Архиерей», «Мелхиседек». Имя «Человек» указывает на то, что Недоступный по природе сделался доступным, приняв тело, и освятил Собой всецелого человека; имя «Сын человеческий» - на сверхъестественное рождение от Адама как праотца и от Девы как Матери; «Христос» - на помазание, освятившее человечество самим присутствием Помазывающего. Христос есть «Путь» как ведущий нас через Себя; «Дверь» - как вводящий; «Пастырь» - как покоящий нас «на злачных пажитях» и водящий «к водам тихим» (ср.: Пс 22. 2); «Овца» - как закланный; «Агнец» - как совершенный; «Архиерей» - как приносящий жертву; «Мелхиседек» - как рожденный без матери по божеству и без отца по человечеству (Or. 30. 21). Имена Христа, указывающие и на божество и на человечество, представляют собой лестницу, восходя по которой человек может достичь обожения (Ibidem).
II. Учение о двух природах во Христе. Воплощение Слова было путем смиренного снисхождения и истощания Божества, но оно же стало путем восхождения человечества к вершинам обожения. Божественное Слово, совечное и единосущное Отцу, в воплощении осталось тем, чем было, восприняв на Себя то, чем Оно не было,- человеческую природу (Or. 29. 19). Сохранив всецелое божество, Слово приняло на себя всецелое человечество; оставшись единосущным Отцу по божеству, Сын Божий стал единосущным нам по человечеству; будучи Богом и Владыкой, Христос стал нашим братом (Or. 44. 7).Таким образом, в момент Боговоплощения не произошло никакой перемены в Боге: Его естество осталось тем же, чем было. Кеносис, или «истощание», Слова произошел не в отношении Его божественного естества, а в отношении Его славы (δόξα, κλέος - Or. 38. 13; Carm. dogm. 9). Кроме того, перемена произошла в нас, ибо в нашем естестве и в нашей судьбе все изменилось кардинальным образом (Or. 29. 19).
В Лице Иисуса Христа божественная и человеческая природы сосуществуют в неслитном и нераздельном единстве. Вселенский IV Собор уточнил христологическую терминологию и отказался от терминов «слияние» (σύγκρασις) и «смешение» (μίξις), а также от производных от них глаголов, которые иногда употреблялись Григорием Богословом, когда речь шла о соединении двух природ (Or. 2. 23; 38. 13; Ep. 101. 21; De vita sua // PG. 37. Col. 612-613). Но принцип взаимообщения свойств двух природ во Христе (communicatio idiomatum), на котором настаивал Григорий Богослов (Ep. 101. 31), был принят за основу этим Собором. Именно благодаря взаимообщению происходит обожение человеческой природы во Христе, а вместе с ней - обожение всего человеческого естества. Бог, по образному выражению Григория Богослова, водрузил в Себе смертного человека и умер «за тех, которые ниспали до земли и умерли в Адаме» (Carm. ad alios 3 // PG. 37. Col. 1487). Последнее означает, что спасительная смерть Христа распространяется на все человечество: во Христе обоживается всецелая природа Адама. Согласно Григорию Богослову, все Лица Святой Троицы участвовали в Воплощении, которое произошло «действием Сына по благоволению Родителя» (Or. 30. 3) после того, как Святой Дух «предочистил» плоть и душу Святой Девы (Or. 38. 13). Григорий Богослов первым стал говорить о «перихорезе» природ и имен во Христе: «Как природы соединились, так и именования взаимоперешли друг в друга (περιχωρουσῶν εἰς ἀλλήλας) благодаря соединению» (Ep. 101. 31).
К тайне соединения двух природ во Христе Григорий Богослов подходит с разных сторон, пытаясь подобрать терминологию и образы, при помощи которых эту тайну можно было бы выразить. Одним из таких образов является завеса: Бог соединяет две природы, одну - сокровенную, другую - видимую для людей, и является людям, прикрывшись завесой плоти (Carm. dogm. 9 // PG. 37. Col. 460). Еще один образ - помазание: Бог Отец помазал Сына «елеем радости более соучастников» Его (Пс 44. 8), помазав человечество божеством, чтобы из двух сделать одно (Or. 10. 4); воспринятое человеческое естество, сделавшись одним и тем же с Помазавшим, стало «единобожественным» (ὁμόθεον) (Or. 45. 13). Григорий Богослов также пользуется образом храма, в который вселилось Божество: этот образ, основанный на Ин 2. 21 («...Он говорил о храме тела Своего»), впоследствии широко использовался такими крайними представителями антиохийского направления в христологии, как Феодор Мопсуестийский и Несторий. Характерно, однако, что, прибегая к терминологии храма и вселившегося в него Слова, Григорий Богослов делает оговорку, что это лишь учение «некоторых», то есть не общецерковное учение и не мнение самого Григория Богослова (Carm. ad alios 7 // PG. 37. Col. 1565-1566). Для описания способа соединения двух природ во Христе Григорий Богослов прибегает к оригеновской концепции посредничества человеческой разумной души (ума), исправляя ее крайности: Слово воплощается «через разумную душу, посредствующую между Божеством и грубостью плоти» (Or. 38. 13; ср.: 2. 23; 29. 19); «Ум соединяется с умом как с ближайшим и родственным и потому посредствующим между Божеством и грубой плотью» (Ep. 101. 49). Делая четкое различие между двумя природами Христа, Григорий Богослов тем не менее подчеркивает, что они в Нем неразлучно соединены, а потому решительно отвергает мнение о «двух Сынах», то есть о двух самостоятельных лицах в Иисусе Христе (Or. 37. 2). «Мы учим,- говорит Григорий Богослов,- что Один и Тот же (ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν) прежде не человек, но Бог и Сын, единственный и предвечный, непричастный телу и всем телесным свойствам, под конец же и человек, воспринятый ради нашего спасения… Один и Тот же земной и небесный, видимый и умопостигаемый, вместимый и невместимый» (Ep. 101. 13-14).
Христологические прозрения Григория Богослова и его богословская терминология предвосхитили несторианские споры V века, в том числе споры вокруг наименования «Богородица» (Θεοτόκος). За полстолетия до Вселенского III Собора, осудившего христологию Нестория, Григорий Богослов вынес свой суд по поводу крайностей дифизитства: «Кто не признает святую Марию Богородицей, тот лишен Божества... Кто говорит, что (в утробе Девы) образовался человек, а потом уступил место Богу, тот осужден... Кто вводит двух Сынов - одного от Бога Отца, а другого от Матери, а не одного и того же, тот пусть лишится усыновления, обещанного правоверным. Ибо две природы, Бог и человек... но не два Сына и не два Бога... Кратко говоря, в Спасителе есть одно и другое... но не один и другой - да не будет! Ибо одно и другое едино в смешении (ἓν τῇ συγκράσει) - Бог вочеловечился, а человек обожился» (Ep. 101). В этом тексте перечислены и другие христологические заблуждения, которые впоследсвтии будут осуждены Церковью. Григорий Богослов сумел обнаружить опасные уклонения от православной христологии задолго до того, как они стали предметом напряженных споров. Четко определив границы, вне которых богослов рискует впасть в ересь, Григорий Богослов создал собственную сбалансированную и гармоничную христологическую доктрину. Отцы III и IV Вселенских Соборов обращались к его писаниям, видя в них образец чистого и неповрежденного православного учения о двух природах во Христе.
Большую значимость для развития православной христологии имеют сочинения Григория Богослова, направленные против ереси Аполлинария, епископа Лаодикийского. Григорий Богослов впервые упомянул об учении Аполлинария в 22-м слове, где назвал его «братской распрей» (ζυγομαχίαν ἀδελφικήν), предполагая, очевидно, что речь идет лишь о частном мнении, от которого Аполлинарий, «во всем остальном человек умный», может отказаться. Однако уже тогда Григорий Богослов четко заявил о том, что́ в учении Аполлинария является абсолютно неприемлемым: если не весь человек воспринят, то «не весь и спасен, хотя весь пал и осужден за преслушание первозданного» (Or. 22. 13). Нарушив заповедь Божию в раю, человек пал прежде всего умом, и именно ум как образ Божий оказался в нем поврежденным; следовательно, ум падшего человека в наибольшей степени нуждается в исцелении. По Аполлинарию, спасена только «половина» человека - тело (Carm. dogm. 10 // PG. 37. Col. 467-468). Наиболее последовательное опровержение ереси Аполлинария содержится в 3 посланиях Григория Богослова, из которых 2 адресованы пресвятому Кледонию, а одно - преемнику Григория Богослова по Константинопольской кафедре Нектарию. В 1-м послании к Кледонию Григорий Богослов приводит следующие аргументы: только то, что соединилось с Богом, спасено, а «невоспринятое не исцелено»; всецелый Адам пал, а, по Аполлинарию, спасена только одна его половина. Григорий Богослов опровергает также мнение Аполлинария о том, что в одном существе невозможно совмещение «двух совершенных»: как в человеке сосуществуют тело, душа, ум и Святой Дух, так и в Богочеловеке возможно сосуществование двух совершенных природ. Григорий Богослов далее обвиняет Аполлинария в докетизме: если Христос был Богом, воспринявшим на себя человеческую плоть как некую личину, то Он не был полноценным человеком и все, что Он совершал как человек, было одним «лицемерным театральным представлением» (δρᾶμα τῆς ὑποκρίσεως). Напротив, если Вочеловечение произошло с целью разрушения греха и спасения человека, то подобное должно было быть освящено подобным, следовательно, «Он нуждался в плоти ради осужденной плоти, в душе ради души и в уме ради ума, который в Адаме не только пал, но и первым пострадал». Наконец, Григорий Богослов усматривает в новоявленном учении признаки субординационизма: хотя Аполлинарий признавал Духа Богом, однако лишил Его силы Божества; Троица в его понимании состоит из «большого, большего и самого большого» и представляет собой «лестницу Божества», которая, по словам Григория Богослова, «не ведет на небо, но сводит с неба». Соединение Бога и человека в Лице Иисуса Христа не было каким-то искусственным и временным союзом двух противоположных природ. Бог воспринял на Себя человеческое естество навсегда, и Христос не отбросил плоть после воскресения: Его тело не перешло в солнце, как думали манихеи, не разлилось по воздуху и не разложилось, но осталось с Тем, Кто воспринял его на Себя. Второе пришествие Христа, по мнению Григория Богослова, будет явлением Господа в человеческом теле, впрочем, таком, в каком Он явился ученикам на горе, то есть преображенном и обоженном.
2-е послание к Кледонию весьма сходно по содержанию с 1-м, причем главным обвинением против аполлинариан остается обвинение в докетизме. Григорий Богослов подчеркивает, что аполлинарианство является новой ересью, существующей не более 30 лет, и что оно противоречит 4-вековой христианской традиции. Аполлинарианскому докетизму противопоставляется православное учение о Христе как совершенном Боге и совершенном человеке.
Григорий Богослов, таким образом, распознал в аполлинарианстве опасное уклонение от православной доктрины, несмотря на то что некоторые пункты учения Аполлинария (вера в божество Святого Духа, разграничение двух природ) соответствовали позиции каппадокийцев. Отношение Григория Богослова к аполлинарианству менялось в худшую сторону: если вначале он называл его «братской распрей», то в поздние годы считал, что речь идет о ереси, за которую следует отлучать от Церкви. В письме к Нектарию Константинопольскому Григорий Богослов выражает недоумение по поводу того, что его преемник по Константинопольской кафедре позволяет аполлинарианам устраивать церковные собрания наравне с православными. Говоря о попавшем ему в руки сочинении Аполлинария, Григорий Богослов утверждает, что изложенное там «превосходит всякое еретическое лукавство». В этой книжке, по свидетельству Григория Богослова, Аполлинарий утверждает не только то, что Христос не имеет человеческого ума, но и что Сын Божий изначально, до Своего человеческого рождения, обладал плотью, которую принес на землю. Более того, Аполлинарий учит, что Сам Единородный Бог «Своим собственным Божеством принял страдание» и что «во время того тридневного умерщвления тела вместе с телом соумерщвлялось и Божество, которое, таким образом, было затем воскрешено Отцом». Ересь Аполлинария, так же как и ересь Ария, подрывает учение об обожении всецелой человеческой природы воплотившимся Словом: именно поэтому Григорий Богослов объявляет ее «злом, направленным на ниспровержение здравой веры» (Ep. 202).
III. Догмат искупления. Учение Григория Богослова об искуплении неразрывно связано с его антиарианской и антиаполлинарианской полемикой. Как и другие богословские идеи святителя, оно неотделимо от учения об обожении, вокруг которого построена вся его богословская система. Григорий Богослов подверг критике теорию выкупа, принесенного диаволу, разделяемую Оригеном и некоторыми другими христианскими богословами (ср.: Orig. In Matth. 16. 8; Greg. Nyss. Or. catech. 22-24; Basil. Magn. In Ps. 7. 2; 48. 3). Диавол не достоин никакого выкупа, считает Григорий Богослов: говорить о смерти Сына Божия как жертве диаволу оскорбительно. Но нельзя говорить и о том, что Сын Божий принес Себя в выкуп Отцу и что Отец мог желать смерти Собственного Сына (Or. 45. 22). Отвергая идею выкупа, принесенного диаволу, а также идею удовлетворения правосудию Отца, Григорий Богослов тем не менее говорит о Христе, приносящем Самого Себя в жертву Богу. Не отказываясь от традиционной терминологии «выкупа», Григорий Богослов, однако, воспринимает ее лишь как «образ», помогающий лучше понять таинство спасительного подвига Богочеловека: «Спрашиваю, для кого пролита кровь Бога? Если для лукавого, то - прочь! - кровь Христа отдана злодею! Если же для Бога, то как? Не другой ли владел нами? А выкуп всегда дается владельцу. Истинно то, что Он Сам Себя приносит Богу, чтобы Самому похитить нас у владевшего нами и чтобы взамен падшего принят был Христос... Так мыслим. Но уважаем и образы» (Carm. dogm. 10 // PG. 37. Col. 470). Григорий Богослов называет Христа «избавлением» (ἀπολύτρωσις), как давшего Себя в «искупление» (λύτρον - выкуп) и в очистительную жертву за вселенную (Or. 30. 20). Он также не отказывается говорить об Отце, Который принимает жертву, однако принимает не потому, чтобы имел нужду в такой жертве, а из снисхождения и ради того, чтобы человек освятился человеческой природой воплотившегося Бога (Or. 45. 22). Крестная жертва Спасителя, таким образом, была нужна не Богу Отцу, но нам и была следствием любви, а не гнева Отца. Наряду со святителем Василием Великим и другими святыми отцами IV и последующих веков Григорий Богослов разделял учение об обмане диавола ради освобождения человечества от его власти: «Поскольку изобретатель греха рассчитывал стать непобедимым, уловив нас надеждой на божественность, то сам уловляется покровом плоти (σαρκὸς προβλήματι δελεάζεται), чтобы, набросившись на (Христа) как на Адама, наткнуться на Бога. Так Новый Адам спас ветхого, и снято осуждение с плоти, после того как смерть была умерщвлена плотью» (Or. 39. 13; ср.: Carm. dogm. 9).
В соответствии с евангельским образом Христа, посланного Отцом по любви к людям, Григорий Богослов в своей трактовке догмата искупления делает акцент на любви Божией, которая была главной причиной Боговоплощения. Единородный Сын был послан Отцом в мир для того, чтобы уврачевать поврежденную грехом человеческую природу. Грех вошел в жизнь человека после грехопадения; наказанием за грех стала смерть. Но и само это наказание было проявлением любви Божией, и в самой смерти содержалось скрытое благодеяние, так как она преграждала путь к распространению греха. В течение долгих веков Бог вразумлял человечество различными способами, однако грех продолжал распространяться. Тогда понадобилось более сильное «лекарство», которым и стало воплощение Бога Слова: «О новое смешение (ὢ τῆς καινῆς μίξεως)! О странное растворение (ὢ τῆς παραδόξου κράσεως)! Сущий получает бытие и Несозданный создается, и Невместимый вмещается через посредство умной души, посредничествующей между Божеством и грубостью плоти! Обогащающий нищает - нищает до моей плоти, чтобы я обогатился Его божеством. И Полный истощается - ибо лишается ненадолго Своей славы, чтобы я причастился полноты Его. Что за богатство благости? Что это за таинство по отношению ко мне? Я был причастен образу, но не сохранил его; Он причащается моей плоти, чтобы и образ спасти и плоть сделать бессмертной. Он вступает с нами во второе общение, которое гораздо необычайнее (παραδοξοτέραν) первого, поскольку тогда даровал нам лучшее, а теперь принимает от нас худшее!..» (Or. 38. 13).
Григорий Богослов учит об искупительном подвиге Христа, «второго Адама», Который «расплатился» за каждый долг первого Адама (Or. 2. 23-25). Смерть Спасителя на Кресте стала воссозданием всецелого Адама, всего человечества. Григорий Богослов подчеркивает универсальный характер крестной жертвы Спасителя: «Я полагаю всеобщими… сами страсти Христовы (αὐτὰ τὰ Χριστοῦ πάθη), которыми мы воссозданы… ибо все мы, причастные одному и тому же Адаму, обольщенные змеем и умерщвленные грехом, спасены Небесным Адамом и возвращены к древу жизни, от которого мы отпали, позорным древом (креста)» (Or. 33. 9). Принесенная Им жертва очищает не малую часть вселенной и не на малое время, но весь мир и навечно (Or. 45. 13). Все человечество соединено под единой Главой - Христом (ср.: Еф 1. 10): «Распростерши святое тело (соответственно) концам света, Он собрал воедино со всех концов всех смертных, соединил их в единого человека и положил в недрах единого Божества, очистив кровью Агнца всякую нечистоту, преграждавшую смертным путь от земли к небу» (Carm. moral. 1 // PG. 37. Col. 535). Искупительный подвиг Спасителя имеет прямое отношение к каждому человеку. Христос умирает не за отвлеченного, собирательного «Адама», но за всякого человека, за каждого конкретного «Адама». Христос «принял образ раба, вкусил смерть и вторично встретил жизнь, будучи Богом, чтобы избавить меня от рабства и от уз смерти» (Carm. de se ipso 45 // PG. 37. Col. 1355). Григорий Богослов рассматривает все события, связанные со страданиями и смертью Христа, как имеющие непосредственное отношение к его собственному спасению: «Привожу тебе (на память) Христа и Христово истощание ради нас, страдания Бесстрастного, крест и гвозди, которыми я разрешен от греха, и вознесение... и образы моего спасения...» (Or. 17. 12). Искупление и спасение Адама, происходящее в результате величайшего таинства - воплощения и смерти Бога (Θεοῦ σαρκουμένου καὶ νεκρουμένου), также является таинством, которое следует не столько обсуждать, сколько воспевать (Or. 45. 28-29).
Сотериология
Основной сотериологический принцип, на который опирается Григорий Богослов в учении о спасении,- «подобным освящается (очищается) подобное» (τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον ἁγιάσας - Ep. 101. 51; Or. 38. 13). Согласно Григорию Богослову, Бог Слово стал человеком, «чтобы освятить Собой человека, став как бы закваской для всего смешения и соединив с Собой осужденное, Он и все целое освободил от осуждения» (Or. 30. 21; ср.: Or. 45. 22). Этот принцип самым тесным образом связан с идеей обожения, раскрываемой им в 3 основных аспектах: христологическом, экклезиологическом и эсхатологическом. Учение об обожении человека воплотившимся Богом, встречающееся уже у священномученика Иринея Лионского и получившее дальнейшее развитие в трудах Климента Александрийского, Оригена и святителя Афанасия Великого, именно после Григория Богослова становится сердцевиной всей религиозной жизни христианского Востока: «...ни один христианский богослов до Григория не употреблял термин «обожение» (θέωσις) столь часто и последовательно, как это делал он; и в терминологическом, и в концептуальном смысле он шел далеко впереди своих предшественников в постоянном обращении к теме обожения» (Winslow. Dynamics. Р. 179). Уже в его первом публичном выступлении темы образа Божия, уподобления Христу, усыновления Богу и обожения человека во Христе становятся основополагающими (Or. 1. 4-5). Целью Боговоплощения, говорит Григорий Богослов во 2-м слове, было «сделать (человека) богом и причастником высшего блаженства» (Or. 2. 22). Своими страданиями Христос обожил человека, смешав человеческий образ с небесным (Carm. de se ipso 34 // PG. 37. Col. 1313). Закваска обожения сделала человеческую плоть «новым смешением», а ум, приняв в себя эту закваску, «смешался с Богом, обожившись через Божество», поскольку «Божество препобедило плоть» (Ep. 101. 29; Or. 29. 19).
В «Словах о богословии» Григорий Богослов делает существенное уточнение к формуле святителя Афанасия Великого (Слово «вочеловечилось, чтобы мы обожились» - Athanas. Alex. De incarn. Verbi. 54): человек становится богом «настолько же, насколько» Бог стал человеком (Or. 29. 19). Таким образом устанавливается прямая связь не только между воплощением Бога и обожением человека, но и той мерой, в какую Бог стал человеком, и той, в какую человек становится богом. Григорий Богослов делает это уточнение в противовес ереси Аполлинария: если Бог не стал всецелым человеком, то и человек не может всецело стать богом. Вера в полноту человеческой природы во Христе, следовательно, предполагает веру в обожение всецелого человека, состоящего из ума, души и тела; и наоборот, идея обожения предполагает веру во Христа как полноценного человека с умом, душой и телом.
Учение об участии тела в обожении является одним из основных отличий христианской идеи обожения от идеи Плотина о стремлении человека к тому, чтобы стать богом («Стремление (человека) - не (только) быть вне греха, но и быть богом» - Plot. Enn.1. 2. 6). В философии Плотина обожение тела невозможно: материя всегда остается злой и враждебной всему божественному. Григорий Богослов, напротив, утверждает, что во Христе плоть обожена Духом: воплотившийся Бог «един из двух противоположных - плоти и Духа, из которых Один обоживает, другая была обожена» (Or. 45. 9). Таким же образом и тело каждого человека, достигшего обожения во Христе, становится преображенным и обоженным (Carm. de se ipso 1 // PG. 37. Col. 1004-1005).
Путь к обожению для христианина лежит через Церковь и таинства. По учению Григория Богослова, Церковь есть единое тело, «соединенное и связанное гармонией Духа... совершенное и достойное Самого Христа - нашего Главы» (Or. 2. 3). В Церкви человек призван «со Христом похоронить себя, со Христом воскреснуть, Христу сонаследовать, стать сыном Божиим и называться богом» (Or. 7. 23). Истинная Церковь может быть немногочисленной, она может быть гонимой еретиками, лишенной принадлежащих ей зданий и внешнего великолепия, но, пока в ней сохраняется в неповрежденной чистоте христианская вера, она остается местом присутствия Божия и обожения людей, где звучит проповедь Евангелия и совершается восхождение человека к небу (Or. 33. 15). Спасение человека происходит в Церкви благодаря участию в таинствах Крещения и Евхаристии. В Крещении человек возрождается и воссоздается благодаря обоживающему действию Святого Духа: Дух «обоживает меня в Крещении... От Духа - наше возрождение, от возрождения - воссоздание... Дух делает человека храмом, богом, совершенным (ναοποιοῦν, θεοποιοῦν, τελειοῦν), поэтому Он и предваряет Крещение, и взыскуется после Крещения» (Or. 31. 28-29). В Евхаристии же «мы причащаемся Христа, Его страданий и Его божества» (Or. 4. 52). Если Крещение очищает человека от первородного греха, то Евхаристия делает его причастным искупительному подвигу Христа (Carm. dogm. 9 // PG. 37. Col. 462-463).
Путь к обожению совершается посредством любви человека к Богу (Carm. moral. 34 // PG. 37. Col. 957). Вершиной этого пути является единение с Богом, которое и есть обожение: «Я - Христово достояние; храмом и жертвой стал я, но впоследствии буду богом, когда душа смешается с Божеством» (Carm. de se ipso 54 // PG. 37. Col. 1399). Путь к обожению лежит также через активное доброделание: «Показывай свою деятельность не в том, чтобы делать зло, но в том, чтобы делать добро, если хочешь быть богом» (Carm. moral. 33 // PG. 37. Col. 944). Благотворительность есть уподобление Богу: будучи щедрым и милосердным, начальник может стать богом для подначальных, богатый - для бедных, здоровый - для больных (Or. 17. 9). Обожение не есть лишь интеллектуальное восхождение; вся жизнь христианина должна стать путем к обожению через исполнение евангельских заповедей: «Возвышайся скорее жизнью, чем мыслью. Первая обоживает, а вторая может стать (причиной) великого падения. Жизнь же соразмеряй не с ничтожными (вещами), ведь даже если ты и высоко взойдешь, все равно останешься ниже (того, что требует) заповедь (Божия)» (Carm. moral. 33 // PG. 37. Col. 934).
Аскетический образ жизни также способствует обожению человека. Григорий Богослов говорит о монахах (девственниках) как о тех, кто восходят к вершинам обожения через духовную и телесную чистоту: «И вокруг светозарного Царя предстоит непорочный, небесный хор - это те, которые спешат от земли, чтобы быть богами, это христоносцы, служители креста, презрители мира, умершие для земного, заботящиеся о небесном, светила миру, ясные зеркала света» (Carm. moral. 1 // PG. 37. Col. 538). Однако воздержание необходимо не только для монахов: каждый христианин должен быть в какой-то мере аскетом, если хочет достичь обожения (Or. 11. 5).
Путь к обожению, наконец, лежит через молитву, мистический опыт, восхождение ума к Богу, предстояние Богу в молитвенном созерцании. «Чем хочешь ты стать? - обращается Григорий Богослов к своей душе.- Хочешь ли стать богом - богом, светоносно предстоящим великому Богу, ликующим с ангелами? Иди же вперед, расправь крылья и вознесись ввысь» (Carm. de se ipso 88 // PG. 37. Col. 1438). Через молитву и очищение ума человек приобретает опыт богопознания, которое становится все более полным по мере приближения к цели - обожению (Or. 38. 7).
Делаясь богоподобным, человек не только благодетельствует самому себе: он также являет Слово Божие другим (Or. 39. 10). Тем самым каждый христианин может способствовать достижению конечной цели существования всего - спасения человечества, обновления и преображения мира, соединения людей с Богом, эсхатологического обожения всего тварного бытия. В согласии с учением отцов Восточной Церкви, по которому обожение человека начинается и совершается в земной жизни, но полностью реализуется в будущем веке, Григорий Богослов учит, что «здесь» человек готовится к обожению, однако лишь «там», после перехода в иной мир, достигает его: это и составляет «предел таинства» христианской веры (Or. 38. 11).
Эсхатология
В надгробном слове Кесарию Григорий Богослов говорит о посмертной судьбе человеческой души, касаясь основных пунктов христианской эсхатологии - учения об исходе души из тела, предвкушении ею будущего блаженства, догмата о воскресении, когда душа возвращается в ее прежнее тело, которое обоживается вместе с ней, учения об изменении, обновлении и обожении всего тварного мира на заключительном этапе его истории (Or. 7. 21). Григорий Богослов неоднократно упоминает в своих произведениях о Страшном Суде, однако воспринимает его прежде всего в контексте идеи обожения - как тот момент, когда «восстанет Судия земли» (ср.: Пс 93. 2) и отделит спасаемое от погибающего, после чего «станет Бог среди богов» спасенных (ср.: Пс 81. 1), чтобы рассудить и определить, кто какой достоин чести и обители. Григорий Богослов говорит об адском огне, однако допускает возможность того, что он будет для грешников очистительным, а не карающим: «Может быть, они там крестятся огнем - последним крещением, самым болезненным и продолжительным,- который поглощает материю, как сено, и истребляет легкость всякого греха» (Or. 39. 19). В другом месте Григорий Богослов говорит об адском огне как о «наказывающем» (πῦρ κολαστήριον) и называет его «увековеченным» для грешников, допуская тем не менее возможность «более человеколюбивого» понимания: «Знаю и огонь не очистительный, но карающий - или содомский, который на всех грешников одождит Господь... или «уготованный диаволу и ангелам его» (Мф 25. 41), или тот, который идет пред лицом Господа и «вокруг попаляет врагов Его» (Пс 96. 3), и - что ужаснее всего этого - действует вместе с «червем неусыпающим» (ср.: Мк 9. 43), неугасим и увековечен (διαιωνίζον) для злых. Ибо все это показывает силу истребляющую, если, впрочем, и об этом не угодно будет думать более человеколюбиво и достойно Того, Кто наказывает» (Or. 40. 36). Говоря о «более человеколюбивом» понимании, Григорий Богослов, вероятно, имел в виду святителя Григория Нисского, в лице которого нашло своего защитника учение об очистительной природе адского огня (Greg. Nyss. De anima et resurr. // PG. 46. Col. 89, 100, 105, 152; Idem. Or. catech. VIII 9, 12; XXIX 8). Григорий Богослов предлагает свой, «более человеколюбивый», вариант понимания адских мучений, заключающихся «прежде всего прочего» (πρὸ τῶν ἄλλων) в «отчуждении от Бога и угрызениях совести (ἡ ἐν τῷ συνειδότι αἰσχύνη), не имеющих предела» (Or. 16. 9). В «Словах о богословии» Григорий Богослов говорит об апокатастасисе: ««Будет же Бог все во всем» (ср.: 1 Кор 15. 28) во время восстановления (ἀποκαταστάσεως) (Деян 3. 21)... когда мы, которые сейчас, по причине движений и страстей, или вовсе не носим в себе Бога, или носим лишь в малой степени, сделаемся всецело богоподобными, вмещающими всецелого Бога и только Его» (Or. 30. 6). Однако в отличие от святителя Григория Нисского у Григория Богослова эсхатология - область вопросов, а не ответов, область догадок, а не утверждений.
Небесное Царство, которого удостоятся праведники после всеобщего воскресения, представляется Григорию Богослову прежде всего царством света, где люди, избавившись от превратностей земной жизни, будут ликовать, «как малые светы вокруг великого Света» (Or. 18. 42). Уделом праведников будет «несказанный свет и созерцание Святой и Царственной Троицы (ἡ τῆς ἁγίας καὶ βασιλικῆς θεωρία Τριάδος), сияющей более ясно и чисто и всецело соединяющейся со всецелым умом» (Or. 16. 9). Это то царство, «где жилище всех веселящихся и поющих непрерывную песнь, где голос празднующих и голос радости, где совершеннейшее и чистейшее озарение Божества, которое ныне мы принимаем лишь в загадках и тенях» (Or. 24. 19). В Царстве Небесном есть «разные обители», к которым ведут разные роды жизни, но «один путь - через добродетель» (Or. 27. 8). В этом Царстве происходит окончательное воссоединение человека с Богом, приобщение Божественному свету, восстановление и обожение всецелого человеческого естества.
Экзегетический метод
Хотя ни одного систематического толкования Григория Богослова на какую-либо книгу Священного Писания не известно, его творения насыщены библейскими цитатами и примерами их толкования (смотреть: Gallay P. La Bible dans l'œuvre de Grégoire de Nazianze le Théologien // Le monde grec ancien et la Bible / Ed. C. Mondésert. P., 1984. P. 313-334; Demoen K. Pagan and Biblical Exempla in Gregory Nazianzen: A Study in Rhetoric and Hermeneutics. Turnhout, 1996. (CC Lingua Patrum; 2); Norris Fr. W. Gregory Nazianzen: Constructing and Constructed by Scripture / Ed. P. Blowers. Notre Dame (Ind.) // The Bible in Greek Christian Antiquity Notre Dame, 1997. P. 149-162). В основном экзегеза Григория Богослова имеет целью решение конкретных богословских задач. Так, полемизируя с еретиками, Григорий Богослов доказывает, что православное учение о Святом Духе имеет свое основание в Библии (Or. 31. 29-30). Богословствовать, по его мнению, возможно только о том, что открыто в Священном Писании (Or. 42. 18). В неявном виде в произведениях Григория Богослова содержится учение о 4 смыслах Священного Писания: «Из именуемого - иного нет, но сказано в Писании; другое есть, но не сказано; а иного нет и не сказано; другое же есть и сказано» (Or. 31. 22). В толковании библейских текстов Григорий Богослов призывает не предаваться иудейской мудрости, «гоняясь за слогами и оставляя вещь» (Ibid. 24), но «сквозь букву проникать во внутреннее» (Ibid. 22). Хотя святитель часто прибегает к приему аллегории (Or. 20. 4; Or. 21. 29; Or. 28. 2; 43. 71, 72, 75; 45. 23), его экзегетический метод нельзя представить как систематический аллегоризм в духе александрийской школы. При толковании Священного Писания он часто апеллирует к здравому смыслу (Or. 31. 21-24). Риторическое образование Григория Богослова проявляется в регулярном использовании им филологического анализа текста Священного Писания.
Влияние
Свт. Григорий Богослов и ктитор. Миниатюра из Гомилий свт. Григория Богослова. XI в. (Ath. Dionys. 61. Fol. 1b)
Свт. Григорий Богослов и ктитор. Миниатюра из Гомилий свт. Григория Богослова. XI в. (Ath. Dionys. 61. Fol. 1b)
Учение Григория Богослова очень рано было признано нормой веры как на Востоке, так и на Западе. Уже Руфин Аквилейский в предисловии к своему переводу избранных слов Григорий Богослов пишет, что несогласие с Григорием Богословом в вере есть явный признак уклонения от правой веры (Rufinus. S. 5). Догматическая безупречность богословской системы Григория Богослова была подтверждена шестью Вселенскими Соборами. II Вселенский Собор окончательно восстановил на Востоке никейскую веру, за которую Григорий Богослов всю жизнь боролся. На последующих Вселенских Соборах на Григория Богослова ссылались как на неоспоримый авторитет в догматических вопросах (Frangeskou V. The Indirect Tradition of Gregory Nazianzen's Texts in the Acts of the Ecumenical Councils // Muséon. 1999. Vol. 112. P. 381-416). На него также ссылались многие великие отцы Церкви, в том числе святитель Кирилл Александрийский, преподобный Максим Исповедник, преподобный Иоанн Дамаскин, преподобный Симеон Новый Богослов, святитель Григорий Палама. Чаще всего на него ссылались как на Богослова, иногда как на Второго Богослова (смотреть: Greg. Pal. Triad. I 1. 6): само наименование «Богослов» отождествлялось в Византии прежде всего с именем Григория Богослова (IV Вселенский Собор впервые официально назвал его этим именем). На сочинения Григория Богослова писали многочисленные комментарии и схолии.
Влияние Григория Богослова на преподобного Максима Исповедника прослеживается в «Книге недоуменных вопросов» (Maxim. Conf. Ambigua), где отдельные трудные для понимания тексты Григория Богослова не только подвергаются подробному и исчерпывающему анализу, но и становятся отправными пунктами для развернутых богословских построений самого преподобного Максима (смотреть: Louth A. Maximus the Confessor. L.; N. Y., 1996. P. 24; Idem. 1993). Сочинения Григория Богослова обладали для преподобного Максима тем же непререкаемым авторитетом, что и библейские книги (Idem. Maximus the Confessor. P. 22): еще одно произведение преподобного Максима (Quaestiones et dubia) представляет собой собрание схолий на тексты, взятые, как правило, или из Священного Писания, или из сочинений Григория Богослова. Творения Григория Богослова были одним из главных источников, на которые ссылался преподобный Иоанн Дамаскин в сочинении «Точное изложение православной веры», подводящем итог развитию восточнохристианского богословия эпохи Вселенских Соборов. Многие богословские и мистические темы Григория Богослова были разработаны преподобным Симеоном Новым Богословом, в частности темы непостижимости Божией, имен Божиих, Божественного света (смотреть: Иларион (Алфеев), иеромонах Преподобный Симеон). Григорий Богослов вдохновлял преподобного Симеона именно как писатель, который говорил о Боге как высочайшем, недоступном, несказанном и непостижимом Свете, об очищении и озарении, о боговидении и обожении. Тема Божественного света объединяет 3 авторов, которые в православной традиции удостоились именования «Богослов»,- святого апостола Иоанна, Григория Богослова и преподобного Симеона (Там же. С. 276-284).
Иллюстрации:
Св. Григорий Богослов. Мозаика собора Св. Софии в Киеве. 1037-1045 гг.
Святители Григорий Богослов и Василий Великий. Роспись ц. св. Георгия Диасорита на о-ве Наксос, Греция. Ок. 1052 г.
Святители Василий Великий и Григорий Богослов. Роспись парекклисиона св. Иоанна Предтечи мон-ря Хиландар на Афоне. 1683-1684 гг.
Отплытие свт. Григория Богослова из К-поля. Миниатюра. XI в. (Hieros. Patr. 14. Fol. 264)
Свт. Григорий Богослов и олицетворение Премудрости Божией. Миниатюра из Гомилий свт. Григория Богослова. Кон. XV в. (РГБ. Троиц. № 137. Ф. 304/I. Л. V об.)
Свт. Григорий Богослов составляет Похвальное слово сщмч. Киприану Карфагенскому. Мучиничество сщмч. Киприана. Миниатюра из Гомилий свт. Григория Богослова. XII в. (Parisin. gr. 543. Fol. 87v)
Свт. Григорий Богослов. Эмалевая пластина из Хахульского триптиха. XI в. (ГМИГ)
«Беседа святителя Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста». Икона. Мастер Никифор Савин. Нач. XVII в. (ГТГ)
Свт. Григорий Богослов. Роспись ц. вмч. Георгия в Курбинове, Македония. 1191 г.
Свт. Григорий Богослов в окружении епископов. Миниатюра из Гомилий свт. Григория Богослова. XII в. (Parisin. gr. 550. Fol. 232)
Свт. Григорий Богослов. Фрагмент иконы «Распятие со святыми на полях». XI-XII вв. (мон-рь вмц. Екатерины на Синае)
Свт. Григорий Богослов. Роспись кафоликона мон-ря Ставроникита на Афоне. Мастера Феофан Критский и Симеон. 1546 г.
Свт. Григорий Богослов. Икона из Успенского собора во Владимире. 1408 г. (ГТГ)
Свт. Григорий Богослов. Икона. 1-я пол. - сер. XV в. (ГТГ)
Святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Икона. 1650 г. (ц. Воскресения на Дебре, Кострома)
Миниатюра из Гомилий свт. Григория Богослова. XII в. (Parisin. gr. 543. Fol. 102v)
Свт. Григорий Богослов. Икона. 1-я треть XVI в. (ГМЗРК)
Свт. Григорий Богослов. Изображение на столбике царских врат. Сер. XVII в. (МИХМ)
Святители Петр Александрийский и Григорий Богослов. Роспись ц. ап. Андрея на Треске, Македония.
Свт. Григорий Богослов. Копия Миниатюры из Минология Василия II (976-1025). XIX в. (ГИМ)
Сочинения:
PG. 35-38; ΒΕΠΕΣ. Т. 58-64. Άθήαι,1979–1986;
рус. пер.: Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова: В 6 ч. М., 1843–1848, 18893;
Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиеп. Константинопольского: В 2 т. СПб., 1912. Серг. П., 1994р. Минск, 2000п;
слова: PG. 35. Col. 395–1252; 36. Col. 9–623; SC. N 247, 250, 270, 284, 309, 318, 358, 384, 405; CCSG. CN. 28 [3], 34 [4], 36 [5], 37 [6], 38 [7], 42 [9], 43 [10], 45 [12], 49 [14], 47 [15], 52 [17], 53 [18]. 57 [19];
Tutte le orazioni / Introd. C. Moreschini. Mil., 2000; Die fünf theologischen Reden / Einleit., Text, Übersetz., Komment. von J. Barbel. Düsseldorf, 1963. S. 38–277;
Mossay J. Repertorium Nazianzenum. Orationes: Textus graecus. Paderborn e. a., 1981–1998. Bde. 1–6. (Stud. z. Geschichte u. Kultur d. Altertums. N. F., 2. R.: Forschungen zu Gregor von Nazianz; 1, 5, 10–12, 14);
Orationes theologicae / Übersetz, Eingeleit. von H. J. Sieben. Freiburg e. a. 1996. (Fontes Christiani; 22) (лат. пер.: Rufinus. Interpretatio orationum Gregorii Nazianzeni / Ed. A. Engelberecht. Vindobonae, 1910. (CSEL; 46); рус. пер.: 13 слов Григория Богослова / Пер.: еп. Ириней (Клементьевский). М., 1798;
Из надгробной речи Василию Великому: [Or. 43. 5]; Фрагм. из 2-й речи против Юлиана: [Or. 5. 11] / Пер.: Т. В. Попова // Памятники визант. лит-ры IV–IX вв. М., 1968. С. 77–83;
О началах: [Or. 1 ] / Пер., коммент.: Т. Сидаш // Вестн. РХГИ. 1997. № 1. С. 167–176);
поэтические произведения: Carmina dogmatica // PG. 37. Col. 397–522;
Carmina moralia // Ibid. Col. 521–968;
Carmina de se ipso // Ibid. Col. 968–1452;
Carmina quae spectant ad alios // Ibid. Col. 1452–1600;
Epitaphia 1–129 // PG. 38. Col. 11–82;
Epigrammata 1–94 // Ibid. Col. 81–130;
Le Passion du Christ. P., 1969. (SC; 149);
De vita sua / Einleit., Text, Übersetz., Komment. von C. Jungck. Hdlb., 1974. S. 55–149;
Carmina de virtute / Hrsg., Übersetz., Komment. von R. Palla, M. Kertsch. Graz, 1985. S. 113–118;
Gegen die Habsucht (Carm. 1, 2, 28) / Einleit., Komment. von U. Beuckman. Paderborn e. a., 1988. (Stud. z. Geschichte und Kultur des Altertums, N. F., 2. R.: Forschungen zu Gregor von Nazianz; 6);
Über die Bischofe (Carm. 2, 1, 12) / Einleit., Komment. von B. Meier. Paderborn e. a., 1989. (Ibid.; 7);
Gegen den Zorn (Carm. 1, 2, 25) / Einleit., Komment. von M. Oberhaus. Paderborn e. a., 1991. (Ibid.; 8);
Der Rangstreit zwischen Ehe und Jungfraulichkeit (Carm. 1, 2, 1, 215–732) / Einleit., Komm.: von K. Sundermann. Paderborn e. a., 1991. (Ibid.; 9);
Ad Olympiade / Ed. L. Bacci. Pisa, 1996;
Autobiographical Poems / Ed. C. White. Camb., 1996;
Poemata Arcana / Ed. C. Moreschini,; Transl., comment. D. Sykes. Oxf., 1997;
Oeuvres poétiques / Ed. A. Tuilier, G. Bady, J. Bernardi. P., 2004. T. 1. Pt. 1. [Poemès personnels. II 1. 1–11] (рус. пер.: Эпиграммы, Гимн Христу, Жалобы, Молитва в болезни, Плач, На Максима / Пер.: С. С. Аверинцев // Памятники визант. лит-ры. IV–IX вв. М., 1968. С. 71–75);
О человеческом естестве / Пер. и примеч.: свящ. Л. Лутковский // ЖМП. 1989. № 11. С. 67–71;
Эпиграммы греч. антологии. М., 1999. С. 285–288; О себе самом и о епископах (Carm. de se ipso 12) / Пер.: А. Ястребов // ЦиВр. 2003. № 1(22). С. 106–172);
письма: PG. 37. Col. 21–388;
Gallay P. [ed.] Briefe. B., 1969. (GCS; 53);
idem. Lettres: In 2 vol. P., 1964–1967;
idem. Lettres théologiques. P., 1974. (SC; 208);
завещание: PG. 37. Col. 389–396;
указатели: CPG, N 3010–3052, 3055–3057 (dubia), 3059–3128 (spuria, versiones);
Библиогр. указ. к «Творениям Св. Отцов в рус. переводе» // БВ. 2003. № 3. С. 285–291, 297–306, 310–313, 332–333, 340–341, 346–348.