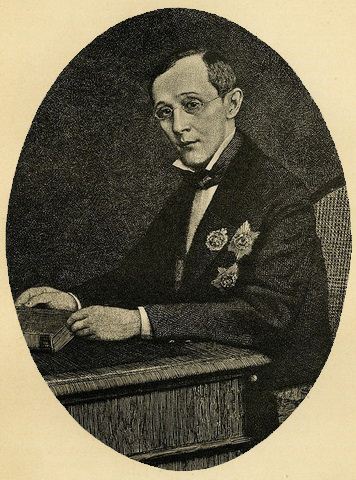Указ царя Петра I «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» от 23 марта 1714 года, вводивший ограничения в права наследования и обязывавший наследодателя передавать всё недвижимое имущество в одни руки. Недвижимость не подлежала разделу и в соответствии с духовной передавалась одному из сыновей (не обязательно старшему, но «кому же аще хощет» сам наследодатель), в случае отсутствия наследника мужского пола – дочери, но с тем условием, чтобы её (будущий) муж взял себе её фамилию (п. 2, 7). Бездетные могли завещать недвижимость кому-либо из родственников, а движимость – любым, даже посторонним людям (п. 3). Имущество вдовы сохранялось за ней вплоть до её смерти, либо же пострига (п. 9). Закон имел обратную силу (с начала 1714 года) и был отменён указом имп. Анны Иоанновны «Об именовании поместий и вотчин недвижимым имением и о разделе оных между детьми по Уложению» от 17 марта 1731.
В качестве обоснования ограничения прав наследования в указе высказывается желание предотвратить дробление дворянских имений, которое наносит «великий вред… как интересам Государственным, так и подданным и самим фамилиям падение». Сказано, что наследники богатого имения, «помня славу отца своего и славу рода… не захотят сиро жить» и, получив каждый свою долю, увеличат подати со своих крестьян. Это приведёт крестьян к разорению, так как их меньшее число не сможет выплачивать подати государству и новому помещику так же исправно, а поскольку от этого по факту сократятся поступления в казну, утверждается, что дробление наследуемых имений противоречит государственным интересам. Кроме того, в указе говорится, что обладание «даровым хлебом» подталкивает человека к праздности, «которая (по Святому Писанию) материю есть всех злых дел».
Распространена точка зрения, что ограничения в завещании недвижимых имуществ были обусловлены, в первую очередь, желанием Петра, чтобы младшие сыновья дворян «шли на государственную, гражданскую или военную службу»; дворянство же саботировало соблюдение этого закона и в итоге добилось его отмены в 1731 году (Милов 2008, с. 72). Иную трактовку характера и историко-правового значения «Указа» предложил В.Д. Киселёв. Он отмечает, что: 1) сам указ касался не одних дворян, но всех лиц, обладавших недвижимостью – не только землёй, но и купеческими лавками, промышленными предприятиями и проч.; 2) купцы и промышленники сами по себе были заинтересованы в том, чтобы избежать дробления собственных предприятий, поэтому в целом соблюдали данный закон; 3) в действительности одно лишь ограничение права завещания, в конечном счете, не могло предотвратить дробления имуществ, поскольку были разрешены имущественные разделы при женитьбе сыновей; 4) в случае с дворянами, невозможность выделить недвижимое наследство в качестве приданого для дочери (если она была не единственной наследницей) компенсировалась практикой завещания дочерям значительных денежных сумм с пометкой «на вотчину»; 5) далеко не все положения «Указа» были отменены Анной Иоанновной: «указ 1731 года, как и его предшественник, закрепил обретение поместьем статуса вотчины, а также утвердил принцип деления всего имущества на движимое и недвижимое» (Киселёв 2009, с. 81).